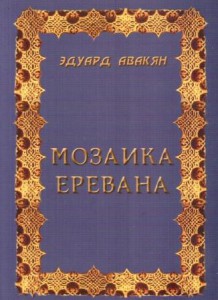СОЦИУМ
Продолжаем публикацию глав из книги Эдуарда Авакяна «Мозаика Еревана». Благодарим переводчика книги на русский язык Светлану Авакян-Добровольскую за разрешение на публикацию.
Предыдущие главы:
- Певец Еревана
- Первый — Ван, последний Ереван
- Старая крепость Еревана и дворец сардара
- Три похода или взятие Ереванской крепости
- О чем рассказывают названия старых кварталов Еревана
- О чем рассказывают улицы и дома старого Еревана
- Конд. Саят-Нова
МУЖИ И ОТЦЫ ЕРЕВАНА
- Мелик-Агамаляны с кондской улицы Тапабаш
- Братья Мнацаканяны
- Преданные рода Тер-Аветикянов
- Еще одно забытое имя
- Врач Арам Тер-Аветикян
- От мастерской до завода Занги
- Старейшина армянской медицины
- Есаи Джанполадян
- Торговый дом «Максанакан»
- Возвращая воспоминания прошлого
- Эриванский род Африкянов
- Акоп-ага
- Увы, как же жаль…
- Наполненный музыкой
- Один из первых
- Известный армянский педиатр
- Одиссея армянского архитектора
- Учёный и его дети
- Мать и сын
- Новое в старом Ереване
- Рафаэль Флорин. Он мог бы жить
- Тарагрос
- Жизнь или судьба
- Он украсил Ереван
- Традиции рода Джанибекянов
- Врача помнят все
- Архитектор Рафо
- В нашем мире у него был свой мир
- Вдохновлённый камнем
- Неутомимый рыцарь культуры
- Тот славный дом
ШАЛЬНЫЕ ЕРЕВАНЦЫ
СВИРЕЛЬ ИЗ ВАНА
Слепой свирельщик был ванским. Никто не знал его имени, истории жизни. Появился годы назад в старом Эриване неожиданно, жил неприметно и, божественный дар, умел играть на свирели, волнуя всех своей печалью. Он появлялся на улице Абовяна, когда смеркалось и замолкал уличный шум. Приходил один, постукивая палкой, усаживался всегда на одном и том же месте: на камне у стены бывшей мужской гимназии. Доставал из нагрудного кармана старого потрепанного пиджака неразлучную свирель, играл на ней до полуночи, случалось, до рассвета. Никто не понимал, почему ночью? Пустынная улица Абовяна, редкие прохожие и щемящая мелодия. Ему, слепому, было все равно — день или ночь, для него не существовало солнца, перед его взором всегда был мрак…
Чаще всего он играл известную ваннам васпураканскую мелодию, наполненную грустью и тоской. Свирель плакала в темноте, звуки разбивались о стены, поднимались по камням вверх, к звездам, а в полнолуние в ореол лунного света.
Плакала свирель, почему? Кто не мог понять, а кто понимал, качал головой: слова мелодии были известны, в них жила неугасимая тоска по родному Вану.
Роза распустилась под Ваном в саду,
Господи! Дорогу, как туда найду?!
Милая малютка, скажи мне: «Ты чья?»
Целый мир ответит: «Ты — моя, моя!»
Часто около слепого ванца останавливались Чаренц и Маари. Они спускались по улице Абовяна, выходя из Интуриста. Их приводило сюда желание послушать свирель, зов тоски: у одного по Карсу, у другого — по Вану. Чаренц приходил взволнованный, усаживался на корточках напротив слепого свирельщика, прикладывал руку к щеке, и можно было заметить слезы в глазах поэта. Маари был тверже, сдержаннее, казалось, никогда не волновался. На лице его застыла боль и тоска, вечные в душе поэта. Только ванеци поймет ванца.
В тот памятный день они пришли, как обычно немного подшофе. Подошли к старику. Чаренц присел перед свирельщиком, Маари — строгий и прямой остался стоять. В какое-то мгновение, когда старик перестал играть, Чаренц бросил деньги в шапку, лежащую на земле, все, что у него было. Маари тоже. Звякнули монеты, свирельщик легко кивнул, а Маари снова с тоской по-своему Вану, в который уж раз спросил: «Из города?» Свирельщик покачал головой: «Из Хач Погана, Айгестана, или из другого квартала?» На этот раз свирельщик ничего не ответил. Чаренц не дал другу продолжить свой допрос. Вскочил и, схватив Маари за локоть, вздохнул: «Оставь человека в покое, Гурген-хан. Какие вопросы мученику!»
Поздно вечером, вернувшись домой, оба — и Чаренц, и Маари, под впечатлением этого дня попытались написать стихи о слепом свирельщике. Маари сидел долго, пока не родились строки:
Куда бы я не шел, со мной свирельщик ночной.
Прислонившись к стене на Абовяне. свирельщик ночной…
В тот день он снова вспомнил Ван, родной дом в Айгестане, школу в Норашене, героическое сражение Вана, дорогу беженства. Конечно же, этот слепой свирельщик общей с ним судьбы, бежавший из Вана от турок. Снова взялся за перо:
Играет каждый день.
Каждый день он плачет.
Свирельщик слепой.
Несчастный…
И неожиданно вспомнил давнюю историю, забытую историю. Дни сражения, дни защиты Вана. Рассказывали, как на позициях часто появлялся слепой юноша. Приносил патроны. Шел на позиции с закрытыми глазами, прислушиваясь к выстрелам. Смелый, уверенный, целеустремленный, с сумкой на плече, полной патронов. Свистели пули. Он не видел, но хорошо слышал. Шагал медленно, твердо, вместо ружья в руке толстая палка. Шагал так, словно зрячий. Улыбались фидаины, встречая его, смеялись: «Слепая пуля слепого не берет!» Усаживался в окопе, наступало затишье, тянулся к груди, доставал из кармана неразлучную свирель, играл. Играл веселые мелодии, васпураканскне танцы, воодушевлял фидаинов…
Маари отбросил ручку, отодвинул бумагу. Надо напомнить это слепому свирельщику: сражение Вана, напомнить, как слепой паренек приносил на позиции патроны, потом играл им веселые мелодии. А сейчас его свирель плачет в тоске по Вану. Снова начал писать:
И умрет он однажды.
На этих холодных мостовых.
Свирельщик слепой и несчастный.
И улица станет для него Ледяным гробом…
Написал и ужаснулся. Представил улицу без слепого свирельщика, без его грустной мелодии. Неожиданно вскочил, побежал к Чаренцу, бежал, задыхался, в сердце зародился страх. Чаренц удивился, говорил, что поздно, но, увидев бледное лицо своего Гурген-хана, услышав его стих, пошел с ним.
Полночь, пустынные улицы. Осенний ветер разносит желтые листья. Холод. Не слышно свирели. Чаренц взволнованный ускоряет шаги. Маари за ним. Впервые так тихо на улице Абовяна. Тускло горят фонари. Вот и слепой свирельщик, простертый на тротуаре, в руке свирель.
Так и ушел из жизни со свирелью в руках. А Маари стоял и тихо повторял: «И улица станет для него ледяным гробом…»