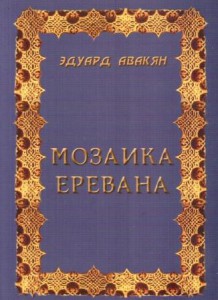СОЦИУМ
Продолжаем публикацию глав из книги Эдуарда Авакяна «Мозаика Еревана». Благодарим переводчика книги на русский язык Светлану Авакян-Добровольскую за разрешение на публикацию.
Предыдущие главы:
- Певец Еревана
- Первый — Ван, последний Ереван
- Старая крепость Еревана и дворец сардара
- Три похода или взятие Ереванской крепости
- О чем рассказывают названия старых кварталов Еревана
- О чем рассказывают улицы и дома старого Еревана
- Конд. Саят-Нова
МУЖИ И ОТЦЫ ЕРЕВАНА
- Мелик-Агамаляны с кондской улицы Тапабаш
- Братья Мнацаканяны
- Преданные рода Тер-Аветикянов
- Еще одно забытое имя
- Врач Арам Тер-Аветикян
- От мастерской до завода Занги
- Старейшина армянской медицины
- Есаи Джанполадян
- Торговый дом «Максанакан»
- Возвращая воспоминания прошлого
- Эриванский род Африкянов
- Акоп-ага
- Увы, как же жаль…
- Наполненный музыкой
- Один из первых
- Известный армянский педиатр
- Одиссея армянского архитектора
- Учёный и его дети
- Мать и сын
- Новое в старом Ереване
- Рафаэль Флорин. Он мог бы жить
- Тарагрос
- Жизнь или судьба
- Он украсил Ереван
- Традиции рода Джанибекянов
- Врача помнят все
- Архитектор Рафо
- В нашем мире у него был свой мир
- Вдохновлённый камнем
- Неутомимый рыцарь культуры
- Тот славный дом
ШАЛЬНЫЕ ЕРЕВАНЦЫ
ДАЛУЛЕ
Хилый мужчина в клетчатом истрепанном пиджаке, издали похожий на огородное чучело. Волосы у него были густые, но грязные и слипшиеся. Кто знает, сколько времени не знали они мыла и гребня. Борода и усы жесткие, похожие на колючки. Он ходил по дворам, собирая милостыню своей песней. Смотрел всегда под ноги, притоптывал в такт песне босыми ногами. Иногда поднимал голову, и тогда все видели его сверкающий на мгновение взгляд. А песня у него была такая же странная, как сам он:
Яблоко подброшу, пусть крутится оно —
Далуле, далуле, далуле джан!
В щечку укушу, станет тебе больно —
Далуле, далуле, далуле джан!
В песне этой звучала безграничная тоска и печаль, в хриплом голосе что-то щемящее… Безнадежность и горечь потерявшего все человека.
Он пел, а когда собравшиеся вокруг зеваки протягивали ему копейки или хлеб и требовали продолжения песни, он с тем же, казалось, безразличием, но как-то испуганно, снова опускал голову и, не глядя по сторонам, начинал свое:
Голод на берегу арыка.
Далуле, далуле, далуле джан!
Девушка по парню сохнет —
Далуле, далуле, далуде джан!
— О каком таком арыке поешь, Далуле? — насмешливо спрашивали его.
— Не знаешь? — вторили другие и добавляли: — Это он о деревне своей!
— Давай на спор: тот парень, по которому девушка сохнет, и есть он сам, Далуле! — смеялись другие.
— Эй, ты! — не унимались самые упрямые и начинали его толкать, тормошить. — Ну, признайся, Далуле, это ты о себе поешь, ты тот самый парень, по которому девушка сохнет?! Признавайся, ты?
Он грустно, не поднимая головы, не обижаясь, с опушенными, как у подбитой птицы, крыльями только пожимал плечами, бормотал: «Кто знает…»
Кто знает… Никто не знал его настоящего имени. Такие, как он, не имеют обычных имен… И никто не задумывался об этом, никто не спрашивал, был он для всех «Далуле», который поет печальную, заунывную песню, а все вокруг потешаются и только!
Никто не знал и того, когда и откуда появился он в старом Ереване. Но молва неслась за ним, подобно черной птице.
Говорят, нет дыма без огня! А дымом была эта самая молва. Рассказывали, что он из какой-то деревни близ Аштарака. Когда-то был богат, имел дом «с крышей», единственный во всем районе, большой сад в несколько гектаров, с фруктовыми деревьями, баранов, двух коров. И семья у него была: любимая жена, сын и дочка. Рассказывали еще, что когда началась коллективизация, и из района многих погнали в Сибирь, он ночью выбрался с семьей из дома, устроил их в надежном месте, а сам зарезал баранов и коров, поджег дом и ушел из родной деревни…
Правда ли все это? Никто не знал. Но дыма без огня не бывает! Да и страх, сквозивший во всем его облике, понурый вид, постоянное отчуждение от всех — свидетельство того, что в этих россказнях много правды. Да и отрывочные слова его песни о далекой деревне, красивой девушке, тоскующей… Может, это о жене?! И все, что стало огнем, унеслось в дыме пожарища… Может, воспоминание заставляло его после песни неожиданно доставать из кармана спички?! И зажигать их дрожащими руками… Нет, он не собирался закуривать. Он подносил зажженную спичку к лицу, к бороде и тихо стонал… «Вах, сгорел мой дом, все кончилось…»
Когда же его спрашивали, что он делает, почему поджигает бороду? Он не отвечал и неожиданно отходил, говоря: «Бриться пора…»
— Ты что сам дом свой спалил, сад поджег?! — смеялись над ним и вновь причиняли боль.
Услышав это, Далуле становился совсем потерянным: втягивал голову в плечи, подобно черепахе, бедной и беззащитной, спасающейся в своем панцире, так и затихал в своих лохмотьях.
А люди, видя его страх, который в те дни был страшнее тюрьмы и ссылки, снова начинали притеснять его. Они хотели, чтобы он сам признался в своей вине, чтобы доказал правильность всех слухов.
— Что же это, у тебя нет дома?! — спрашивали его. — Где твоя жена, дети?
Он пожимал плечами и отвечал:
— Кто знает…
Когда его уж слишком доставали, он, как уставший от мух осел, только покачивал головой и тихо стонал:
— Болен я, голова болит, спина болит…
И, обхватив руками, голову начинал хмуро:
Заблудился, растерялся, обезумел…
Далуле, далуле, далуле джан!
И вправду обезумел, заблудился бродяга, каким и был Далуле.. Потерял всю семью, имущество, видать и рассудок потерял… Годы подряд, как неизлечимая болезнь, его мучил страх Сибири.
Бросив все, спалив родной дом, он стал бродягой в старом Ереване, бродил но дворам, пел за кусок хлеба и жалкую подачку… Участия ждал, доброго слова, но не получал его. Люди словно радовались его беде, его несчастью, его боли…
Проходили годы, но не менялся Далуле, оставалась прежней его песня. И люди не менялись. Просто он стал незаменимой частицей города, забавой города. И звучала его песня в ереванских дворах, и ничего не менялось, и, казалось, так будет всегда.
Но однажды Далуле исчез. Прошел день, прошел месяц. Далуле не появлялся. Потом кто-то рассказал, что Далуле нашел родной сын и увел его к себе домой. Кто-то не верил, другие вспомнили о том, что рассказывали о жизни бродяги: были у него жена, сын, дочь! А мы-то думали: нищий, бродяга, без кола и двора!
Все представляли радость бедняги Далуле, подумать только, после стольких лет найти родных, давно потерянных! Но кто же будет петь для ереванцев?!
Все оказалось правдой. Сын нашел отца. Дочь и внуки приняли его с любовью, одели в новые чистые одежды, уложили в чистую постель. Жена Далуле, когда-то она была настоящая красавица, постаревшая, морщинистая, плакала об ушедших потерянных днях, вспоминала родную деревню, арык… А потом сказала: уж лучше бы вместе в Сибирь, нежели такая жизнь в тоске и разлуке!
Но все случившееся самому Далуле не стало в радость. Сибирь вновь мучила его, показывала свои чертовы рожки! Он чувствовал себя чужим у сына, дочери, внуков. И любимая когда-то женщина стала совсем чужой! Все исчезло из памяти: деревня, речка, поле, дом… Остался в памяти только дым от сгоревшего дома, он душил его. Далуле устал от родных, отчужденный, забился в угол и грустно сидел в молчании. В голове билась одна только мысль: «Не оставят нас в покое, в Сибирь сошлют!»
Родные пытались его успокоить, говорили: времена изменились, бояться нечего, тот, кто всех в Сибирь гнал, давно на том свете!
Но Далуле оставался неумолим в своем страхе.
Ничего не поделаешь, все свершается волею неумолимой судьбы, и то, что разбилось, невозможно склеить. Его жизнь давно уже разбита, и страх, поселившийся в душе, не проходил. Говорят, люди скорее приучаются к трудностям, нежели к легкой жизни. Все привычка, а она с годами становится характером. И Далуле в новом доме, в чистых одеждах и на чистой постели не чувствовал себя хорошо. Он места себе не находил. Он привык к бродяжнической жизни, к улицам, дворам… Нищая свобода звала его!
И в один прекрасный день, оставшись в одиночестве дома, он отыскал в чулане свои старые одежды: пиджак, заштопанные брюки, стоптанные башмаки, оделся и ушел из дома, который стал для него тюрьмой! Ему не нужно было все то, что он когда-то потерял!
И снова на улицах и во дворах старого Еревана появился Далуле в истрепанных одеждах, рваных ботинках (он их часто снимал и пританцовывал босиком), несчастный Далуле, издали похожий на огородное чучело.
— Далуле пришел, Далуле! Здравствуй, Далуле! — кричали ему радостно детишки и взрослые. Они приветствовали своего Далуле, бросившего дом и семью, беднягу Далуле!
— Что же ты своих бросил? — спрашивали его.
— Как знать…- отвечал он кратко.
— Ты, что же, своим ничего не рассказал? Жене, сыну, дочке…
— Как знать, — отвечал он.
И, устав от настырных вопросов, не ожидая, когда его попросят спеть, прекрасно зная, что люди ждут его песню, приложил руку ко лбу и запел:
Заблудился, растерялся, обезумел…
Далуле, далуле, далуле джан!