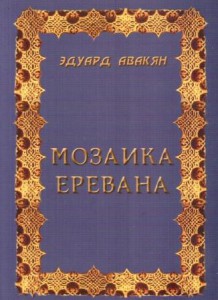СОЦИУМ
Продолжаем публикацию глав из книги Эдуарда Авакяна «Мозаика Еревана». Благодарим переводчика книги на русский язык Светлану Авакян-Добровольскую за разрешение на публикацию.
Предыдущие главы:
- Певец Еревана
- Первый — Ван, последний Ереван
- Старая крепость Еревана и дворец сардара
- Три похода или взятие Ереванской крепости
- О чем рассказывают названия старых кварталов Еревана
- О чем рассказывают улицы и дома старого Еревана
- Конд. Саят-Нова
МУЖИ И ОТЦЫ ЕРЕВАНА
- Мелик-Агамаляны с кондской улицы Тапабаш
- Братья Мнацаканяны
- Преданные рода Тер-Аветикянов
- Еще одно забытое имя
- Врач Арам Тер-Аветикян
- От мастерской до завода Занги
- Старейшина армянской медицины
- Есаи Джанполадян
- Торговый дом «Максанакан»
- Возвращая воспоминания прошлого
- Эриванский род Африкянов
- Акоп-ага
- Увы, как же жаль…
- Наполненный музыкой
- Один из первых
- Известный армянский педиатр
- Одиссея армянского архитектора
- Учёный и его дети
- Мать и сын
- Новое в старом Ереване
- Рафаэль Флорин. Он мог бы жить
- Тарагрос
- Жизнь или судьба
- Он украсил Ереван
- Традиции рода Джанибекянов
- Врача помнят все
- Архитектор Рафо
- В нашем мире у него был свой мир
- Вдохновлённый камнем
- Неутомимый рыцарь культуры
- Тот славный дом
ШАЛЬНЫЕ ЕРЕВАНЦЫ
ГИЖ КОЛЯ
Кем же он был, откуда появился на улицах и во дворах старого Еревана? Никто ничего не знал о нем, многих это и не интересовало. Гиж Коля, и только. Немногие знали, что работал он на конюшне Сашаха, а когда тот в один прекрасный день потерял все: богатство, конный завод, даже собственный дом со всем добром, — Коля взял в руки бубен… Он еще с детства чувствовал в себе природный дар и стал артистом: бродил по Еревану, заходил во дворы, пел, плясал, дарил людям хоть малую толику радости.
Сумасшедший, шальной… Обычный армянин, роста среднего, коренастый, кряжистый как пень, с кудрявыми волосами, черноглазый, с быстрым взглядом из-под густых бровей. Когда он начинал петь, глаза весело блестели.
В наш двор он всегда входил торопливо, деловито, будто на свидание опаздывал. В руках бохча (сумка) с «театральными одеждами и шапками», которую он укладывал на земле у стены, в одном и том же месте. Он бил в бубен и пел:
Был бы у меня фаэтон.
Красные колеса.
Он бы к яр (любимой) меня домчал.
Ночь продлится долго…
На звуки песни во дворе появлялась Ануш, одинокая, несчастная женщина, жившая в подвале. Обычно она днями не выходила во двор, никогда ни с кем не разговаривала. Единственной ее радостью и был Гиж Коля, его песни. Ануш была женщина некрасивая, худая, с большим носом и запавшими щеками. Одни только волосы и были у нее хороши — длинные, густые. Она заплетала их в косу, забрасывала за спину. А когда Гиж Коля начинал петь, Ануш перебрасывала косу на худую грудь и кокетливо поигрывала ею. Смуглое лицо ее розовело, казалось от этого еще смуглее, словно загар, полученный в летнюю страду. За эту смуглость и прозвали ее Сев (Черная) Ануш. Имя пристало к ней, и все так и звали ее — Севануш…
Гиж Коля исполнял свою «выходную» песню, Севануш перекидывала длинную косу на иссохшую грудь, смотрела на него нежно; он умолкал, откладывал бубен и объявлял:
— «Ануш»… Армен Тигранян…
Доставал из бохчи старую черную шаль, всю в дырах, и приказывал стоящим рядом мальчишкам:
— А ну-ка натяните!
Потом, укрывшись за шалью, надевал на голову папаху, опоясывался куском овчины и, превратившись в Capo, выходил на середину двора и пел красивым голосом:
Душу мне, Ануш, ты в огне сожгла.
Волосами мне ноги отела!
Не стерплю — схвачу, силою умчу.
Эй, девушка гор!
Красавица гор!
Смуглая краса.
Темная коса!
Он пел, голос звенел, то понижаясь, то повышаясь, дрожал в воздухе. Открывались закрытые двери и окна, люди высыпали на балконы. А он, словно не видя ничего, не обращал ни на кого внимания, смотрел только на Севануш, ловил ее нежный взгляд.
— Вай, ослепнуть мне!.. — говорил кто-то, стоящий рядом.
— Вот это да! — удивлялись старухи, многое повидавшие на своем веку.
— Ха-ха-ха! — смеялись молодые. — Может, влюбился Гиж Коля?
— Как знать… — отвечали другие. — Мир велик…
А Гиж Коля ни на кого не смотрел, никого не слышал. Он был со своей песней в другом мире. Кончал петь, снова окликал парней, скрывался за натянутой шалью, быстро переодевался в женские одежды, прикреплял к волосам длинные косы, повязывался красной косынкой — и на глазах удивленных и заинтересованных соседей на этот раз превращался в Ануш, высокую и красивую. И по всему двору следом за драматическим тенором Capo звучало нежное сопрано Ануш. Гиж Коля умел изменять голос.
Опустела жизнь!.. Странно опустел.
Изменился мир!.. Мир осиротел!
Горы без Capo — сиры и пусты…
Заканчивал Гиж Коля песню Ануш, скрывался за шалью и через несколько минут появлялся в обличье сгорбленной старухи в темной косынке, надвинутой на глаза, — прихрамывающей матери Ануш. Потом выходил в роли Моси, с палкой-ружьем, и убивал Capo… А наш двор, и без того печальный, казалось, настигала новая беда. Люди стояли взволнованные, качали головами, многие женщины, особенно старые, вспоминали о чем-то своем, плакали. Не огорчалась только Севануш. Она вся вытягивалась, нос заострялся, лицо казалось худее, румянец пропадал в смуглой бледности. Откинув косу на спину, она покачивала головой, словно жалуясь не на судьбу, а на Гиж Колю. А он каждый раз смотрел на нее удивленно и не произносил ни слова.
Так молчал он месяцы подряд, но однажды, кажется за неделю до своего исчезновения, не выдержал, подошел к Севануш и, вперив в нее строгий взгляд своих неспокойных глаз, сказал:
— Нет, сестренка, ты счастливее той Ануш… — Он просто пожалел ее.
— Что это с тобой? — удивилась Севануш. Она ведь тоже жалела этого одинокого, бездомного мужчину.
А жалость, что там ни говори, сродни любви.
— Ануш умерла с болью за любимого, — продолжил Гиж Коля. — а ты еще жива…
И оборвал на полуслове. Но что полуслово, когда и так все было ясно. Собравшиеся смешались, кто-то громко засмеялся. Гиж Коля на мгновение забыл о людях, об их злых языках.
Опомнился, в страхе отпрянул. Послышалось:
— Гиж Коля и вправду влюбился!
Кто-то по наивности спросил:
— В кого?
— Ослеп ты, что ли, в Севануш!
Севануш резко повернулась, бросилась к себе, заперлась. А Гиж Коля торопливо собрал бохчу, бубен и убежал.
Неделю его не было. Одну только неделю. После этого он стал чаще приходить в наш двор и пел теперь только «Ануш»…
На свете много злых людей, но злых языков еще больше. Стали поговаривать, что Гиж Коля поздними ночами приходит к Севануш, а на рассвете тихо исчезает. Смеялись, злословили.
— Чего это он к ней повадился? — спросила как-то одна из соседок.
— А ты не понимаешь? Они ночью в Capo и Ануш играют.
И неизвестно, чем бы закончилась эта история, только год тот был страшный, а люди беззащитными. Прошел слух, что Гиж Колю арестовали: он, мол, немецкий диверсант… Потом новое: Гиж Коля — французский шпион. Придумали даже странную, неправдоподобную историю о том, что видели его в Париже, во фраке, с цилиндром на голове, выходящим из французского парламента… Никто не знал, кто придумал эту «хвостатую ложь». Правдой же было то, что его увезла «черная маруся». Его допрашивали, отобрали бохчу, бубен и отправили на Колыму.
Прошли годы. Старики стали забывать Гиж Колю, молодые ничего о нем не знали. Так бы его и позабыли, если бы кто-то, вернувшийся из ссылки, не рассказал о нем — мол, видел вашего Колю на Колыме. Он там своими песнями начальника лагеря и надзирателей ублажает, словом — выжил. Освободившись от смертоносных рудников и лесоповала, он стал давать свои представления. А людям у смертного порога и малой радости хватает. Там, на Колыме, Гиж Коля выучился петь и плясать по-киргизски, по-узбекски, казахские игры и танцы выучил.
Прошло десять лет. Кто-то навечно остался в Сибири, немногие вернулись домой, вернулся и Гиж Коля. Прошло столько лет, долгих, тяжких, молодые повзрослели, старшие постарели, многих уже не было в живых. Только память еще жила, немеркнущая память о нашем Конде, о старом дворе…
У Гиж Коли теперь был новый бубен, побольше прежнего. Он снова увязывал бохчу и ходил по дворам. Трудные годы, казалось, не коснулись его, прошли мимо. Он не постарел, не изменился, оставался все тем же. только в бороде блестела седина, как след прожитых лет. Но глаза под густыми бровями оставались прежними — беспокойными, блестящими.
Первый раз он вошел в наш двор все так же торопливо, деловито, положил бохчу у стены, ударил в бубен, запел свою песню. Он пел и смотрел на дверь подвала, откуда на его песню всегда выходила Севануш. Соседи высыпали во двор, старые узнали его, обрадовались:
— Гиж Коля вернулся!
Но он не смотрел ни на кого, ничего не говорил, только бил в бубен и пел. Дверь подвала оставалась закрытой.
Одна из старых соседок, которая знала историю Гиж Коли и Севануш, подошла к нему и шепотом сказала:
— В первый год войны умерла бедная Ануш, упокой Господи ее душу. Одинокая женщина была, бедняжка, когда умирала, никого рядом не было. Соседи похоронили. И, помолчав, добавила:
— Под подушкой у нее косынку красную нашли…
Она быстро зашла в дом и принесла косынку. Гиж Коля вздрогнул, молча взял косынку, спрятал на груди.
— Моя. — сказал он.
— Она что, украла у тебя? — спросила женщина.
— Я сам ей подарил… Я…
Сказал, опустился на землю, медленно собрал свою старую бохчу. В его черных глазах застыли слезы. Наверное, он плакал первый раз в жизни. Потом он опустил голову и медленно, непривычным для него шагом, словно устав от жизни, разочаровавшись, ушел из нашего двора.
Когда он снова пришел, и мы попросили его спеть «Ануш», он только ответил:
— Я уже отыграл свою роль…