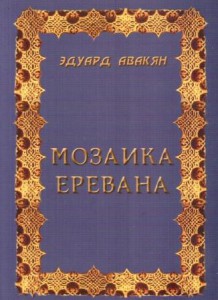СОЦИУМ
Продолжаем публикацию глав из книги Эдуарда Авакяна «Мозаика Еревана». Благодарим переводчика книги на русский язык Светлану Авакян-Добровольскую за разрешение на публикацию.
Предыдущие главы:
- Певец Еревана
- Первый — Ван, последний Ереван
- Старая крепость Еревана и дворец сардара
- Три похода или взятие Ереванской крепости
- О чем рассказывают названия старых кварталов Еревана
- О чем рассказывают улицы и дома старого Еревана
- Конд. Саят-Нова
МУЖИ И ОТЦЫ ЕРЕВАНА
- Мелик-Агамаляны с кондской улицы Тапабаш
- Братья Мнацаканяны
- Преданные рода Тер-Аветикянов
- Еще одно забытое имя
- Врач Арам Тер-Аветикян
- От мастерской до завода Занги
- Старейшина армянской медицины
- Есаи Джанполадян
- Торговый дом «Максанакан»
- Возвращая воспоминания прошлого
- Эриванский род Африкянов
- Акоп-ага
- Увы, как же жаль…
- Наполненный музыкой
- Один из первых
- Известный армянский педиатр
- Одиссея армянского архитектора
- Учёный и его дети
- Мать и сын
- Новое в старом Ереване
- Рафаэль Флорин. Он мог бы жить
- Тарагрос
- Жизнь или судьба
- Он украсил Ереван
- Традиции рода Джанибекянов
- Врача помнят все
- Архитектор Рафо
- В нашем мире у него был свой мир
- Вдохновлённый камнем
- Неутомимый рыцарь культуры
- Тот славный дом
ШАЛЬНЫЕ ЕРЕВАНЦЫ
САШАХ И ПСТИ-ПУЧУР
По имени-фамилии был он Саша Агамалов, но на Конде, старом квартале Еревана, все звали его просто Сашах. А когда-то, очень давно, его — молодого, самоуверенного, гордого Сашаха -величали ага Саша Агамалов, господин!
Но наступили новые времена, начал он медленно нищать, стал просто Агамаловым, а когда лишился средств к существованию, сравнялся с обыкновенными смертными, превратился в Сашаха.
Ага Саша Агамалов, так рассказывали старики: высокий, с тонкими европейскими усиками и удивительными кудрявыми волосами, известный и узнаваемый не только на Конде, но и в других кварталах Еревана: Шагаре, Шилачи, даже в пригородах. Знали его в Москве и Петербурге. Учился в Европе, жил в Вене, Берлине, потом в России, в двух ее столицах. Там сын богача ага-Бархудара с Конда, Александр и стал Сашей, а Агамалян — Агамаловым.
Прошли годы. После смерти отца Бархудара Саша с русской женой приехал в Ереван, получил во владение большие сады в Норке и ущелье Зангу, мануфактуры в Шахаре и в центре города, отличные бакалейные магазины на Бебутовской.
Молодой ага и его жена поселились на Тапабаше в двухэтажном доме из красного кирпича. При доме был большой двор с бассейном для летних купаний, и огромный сад, где росли только красные и желтые розы. Красивый узорчатый балкон над ущельем реки и Цицернакабердом был отличной смотровой площадкой. Дом был поистине чудом в лабиринтах глинобитных серых строений Конда. Только дом и двор Саши Агамалова видели немногие: он был с четырех сторон окружен высокой и крепкой каменной стеной из туфа, с большими дубовыми воротами. Они открывались только для кареты. Все остальное время ворота оставались закрытыми. На ограде стояли в ряд цветочницы, тоже из туфа. В них росли ромашки, устремлявшие к солнцу свои желтые сердечки.
Вернувшись из России, Саша Агамалов открыл новый магазин на Астафьевской, расширил магазин на Бебутовской, украсил его новыми прилавками и зеркалами. Фрукты из его знаменитых садов он отправлял в особых вагонах в знаменитые магазины Елисеева. Росло его богатство, а вместе с ним — уважение и почтение.
Но счастье — дело обманчивое. И хотя все завидовали его богатству, сам он считал себя несчастным. Что ж, каждый смертный, пришедший в этот мир, несчастен по-своему. Жизнь не соткана из одних радостей, счастье — одни мгновения…
Ага Саша Агамалов познакомился в Москве с русской девушкой, женился. Любил ее голубые глаза и золотистые волосы. А потом мучился именно из-за них.
Молодые приехали, обосновались на Конде в красивом доме, и Серафима Мефодиевна стала госпожой Агамаловой. Но неожиданно для всех дочь московского скорняка, не задумываясь, сбежала с турком-мясником, у которого были крепкие кулаки, толстая шея, густые усы и глаза, налитые кровью.
«Ослепнуть бы мне, не приезжать из Москвы, черт возьми!» — часто повторял ага Саша Агамалов, вспоминая жену, а его мать тикин Софи, которая, как говорили, была настоящая госпожа, гордая, из знатного рода, вздыхала, переживая за сына и говорила: «Ослепнуть бы тебе, не ездить в Москву!»
После измены Симочки он больше не женился. Напрасны были увещевания матери. Он разочаровался в женщинах, огорчился.
Дабы избавиться от одиночества и постоянных причитаний матери, он стал разводить животных, больше лошадей и собак. Когда мать сердилась: кому надобно столько собак и лошадей, заполнивших двор и дом, ага Саша Агамалов горько усмехался и говорил: «Они-то меня не предадут, черт возьми!»
А вот кошек не любил, особенно со светлой шерсткой и голубыми глазами. «Женщина и кошка — все одно, — говорил он, — погладишь, прикроет глазки и нежно мурлычит, а рассердишься — сразу царапнет…»
Двор его дома был забит собаками: держал бульдогов, сеттеров, шпицев и каких-то псов невиданных пород, на Конде раньше таких никто не знал. И много лошадей. Ведь у него была карета, с черными блестящими боками, кожаным верхом, красными колесами и рессорами. Любил запрягать карету черными или белыми лошадьми: на работу ездил на черных, на прогулку впрягал белых. Ребятишки цеплялись за задок кареты, садились на открытую ось. А те, кто не мог, кричали вслед: «Кнут на хвост, кнут на хвост!»
Он не разрешал кучеру прогонять их. «Пусть сидят, не конец же света, пусть покатаются!»
Но наступили новые времена, и все изменилось. Он медленно, но верно нищал, терял все. Сначала жену, потом — богатство. Конфисковали магазины, сады стали государственными, исчезла карета, слуги в доме, работники в магазине. Он стал приезжать на работу на коне. Потом и коня забрали, и собак. Наступил день, когда ага Саша Агамалов стал простым смертным.
На Конде были свои богачи. Они исчезли. На Конде были свои постоянные нищие, они остались: Крнат Маре, Мшо и еще побирушки, бродячие попрошайки, ходившие из дома в дом, из квартала в квартал, просившие хлеба. Таких нищих на Конде называли попрошайками, и самым известным из них был Псти-Пучур. Маленький, тщедушный, сгорбленный, с изрытой оспой лицом, подслеповатый. Зимой и летом он ходил в старом пальто с потертыми локтями. Он не просил хлеба, только деньги и только «пятнадцать копеек», не больше не меньше. Псти-Пучур выходил во двор с пустой консервной банкой. Останавливался в стороне у колонки, молчал и терпеливо ждал, когда ему кинут деньги. И так годы подряд. Менялись люди, времена, старики умирали, рождались дети, но годы, казалось, проходили мимо, не меняя ни его внешности, ни старого пальто. Случалось, кто-то из мальчишек подбегал к нему и спрашивал: «Сколько тебе лет, Псти-Пучур?» А он, вздрогнув, как хорошо заученный урок, отвечал: «Полтора годика».
Была у него привычка: каждый день в один и тот же час появляться у дубовых ворот ага Саши Агамалова, останавливаться у столба и ждать с неизменной жестянкой в руке. Он хорошо знал, когда возвращается домой хозяин, и как только слышал звук подъезжающей кареты, ржание лошадей, цокот копыт по пыльным и каменистым изгибам Тапабаша, поворачивался и смотрел в сторону Саши Агамалова. Он ничего не говорил, он ждал. И Саша Агамалов, в каком бы настроении он не был, никогда не оставлял его без внимания: доставал из кармана мелочь, бросал в жестянку. Псти-Пучур немедленно запускал руку в банку, вынимал копейки, и поскольку ага всегда давал ему много, протягивал назад и говорил: «Пятнадцать копеек, ага, пятнадцать копеек…» Когда настроение у ага Саши Агамалова было отличным, он, выйдя из кареты, останавливался около нищего и, глядя с состраданием на его рябое лицо, в водянистые, не видящие глаза, спрашивал: «Как дела, Псти-Пучур?» А тот отвечал: «Хлеб подешевел, человек подорожал».
Падение ага Саши Агамалова длилось долго, и было страшным, потрясая весь Конд. В чем-то это было похоже на падение огромной и грозной скалы, медленно сползающей вниз. Он обнищал не сразу, он медленно сходил со своей высоты. Единственным утешением оставалась белая лошадь Марфа. Он брал ее под узды, выводил из дому. Не седлал, жалел свою единственную надежду. Но наступил день, и лошадь тоже отняли. Среди всех потерь эта стала самой страшной. Потом их выселили из собственного дома, дали жилье в подвале, там, где он когда-то держал собак. Он смирился и с этим. В подвал взял несколько старых вещей, мать и память из прошлого — попугая Фиму.
Каждое утро Сашах спускался с Дари Глуха в город, одетый в свой единственный поношенный и выцветший френч, в брюках-галифе, на ногах чудом сохранившиеся светлые гетры с блестящими застежками. Туфли со сбитыми каблуками по-прежнему скрипели, привлекая внимание. От прошлого богатства и славы только и осталось, что это поскрипывание. Он шел мимо стены, начиная с Дари Глуха, по вымощенным черным туфом тротуарам, прислушивался к вечной песенке бегущего арыка. Спускался в город, где его пристроили на работу бухгалтером в один из новых магазинов. Образование у него все-таки было европейское…
Вечером неторопливым шагом, годы брали свое, он постарел, заходил на базар и, наполнив старую кожаную сумку продуктами, возвращался домой.
— Сашах! — кричали мальчишки, разглядывая его скрипучие старые ботинки и удивительные гетры.
А среди стариков кто-то радовался его падению, кто-то, жалея, покачивал головой. Все изменились, но больше всех он — Сашах…
И только Псти-Пучур оставался прежним: в старом пальто, с жестянкой в руке. Безразличный, казалось, непосвященный в то, что свершилось в мире.
Но и теперь, возвращаясь домой и, видя нишего, Сашах, непременно останавливался, смотрел на него с состраданием, спрашивал: «Как дела, Псти-Пучур?» А тот отвечал: «Хлеб подешевел, и человек с ним вместе…» Сашах качал головой и входил в ворота. Кареты давно не было, кусты роз зачахли, бассейн заброшен и без воды.
— Эх, — вздыхал он, — когда в мире много хозяев — везде беспризорность…
— Что ты такое говоришь? — с тревогой спрашивала его тикин Софи.
— Говорю, черт возьми! — сердился Сашах и ставил сумку на стол.
— Снова, Саша! — делала замечание мать так, словно перед ней был ребенок, — так и не научился?! Нельзя ставить сумку на стол. Поставь туда. И тикин Софи показывала на старый столик с бамбуковыми ножками и истертой бархатной обивкой.
Тикин Софи постарела, согнулась. Потери сына сломили эту гордую женщину, привыкшую к славе, богатству. Прежде высокая, румяная, с красивыми полными руками, она высохла, уменьшилась, а старые одежды из парчи и шелка сидели на ней как на вешалке. Она все потеряла, но сохранила свои аристократические манеры: она не садилась за стол без дорогой скатерти и посуды, а осталось у них так мало из прошлой роскоши: бархатная скатерть давно истерлась, выцвела, а серебряный сервиз с вензелем рода поредел. Но она каждый раз нарочито гремела посудой, ножами и вилками и говорила: «Пусть соседи слышат, кто порадуется, кто позавидует, пусть не думают, что сын ага Бархудара Агамаляна пропал!»
Когда она гремела посудой, сидящий в клетке попугай Фима начинал беспокоиться и кричать: «Спокойно, Фима!» — говорил Сашах. А попугай гортанно отвечал: «Дай хлеба, Саша!» Сашах насыпал в кормушку зерна ячменя, останавливался перед попугаем: «Все предали, ушли, черт возьми! Один ты остался со мной. Фима, один ты напоминаешь о прошлом…»
А попугай, безразличный к его славам, все повторял: «Дай хлеба, Саша!..»
Наступили трудные дни. Подорожал хлеб. На зарплату жилось трудно, и серебро тикин Софи одно за другим ушло в Торгсин. Сначала большой серебряный поднос с красивым родовым вензелем «АА», потом — блюда, бокалы. Скоро очередь дошла до ножей и вилок. И вместо серебра на столе у Сашаха появились простые — нержавеющие ложки, вилки, ножи, грубые граненые стаканы.
Тикин Софи держалась долго, старалась не показывать вида, но и она сломалась, не вынесла последнего удара, когда сын продал самую дорогую реликвию рода Агамалянов — подарок русского царя Николая — золотые часы с собачкой…
Вернулся с кладбища, похоронив мать, и остался один в убийственной тишине. Подумал: не стоит жить и сошел бы с ума, но неожиданный крик попугая: «Дай хлеба, Саша!» вернул к реальности.
Несколько дней никто не видел Сашаха. Слег, не вставал с постели.
И только Псти-Пучур каждый день появлялся у ворот в определенный час, стоял в углу, ждал. Сашаха не было. Не слышалось поскрипывания старых ботинок, никто не спрашивал «Как дела, Псти-Пучур?» И никто не отвечал: «Хлеб подорожал, человек подешевел…»
Прошло три дня. Наконец Псти-Пучур сдвинулся с места, вошел во двор. Был конец осени, ветрено, холодно. Опираясь на суковатую палку, Псти-Пучур, предчувствуя неладное, пошел в сторону дома. Нашел наошупь дверь, вошел в комнату. Сашах лежал в углу, стонал. Псти-Пучур пошел на голос. «Воды», — прошептал Сашах и повернул бледное лицо в сторону вошедшего. Псти-Пучур медленно подошел, остановился рядом. «Ты? — удивился Сашах — Ты, Псти-Пучур? За деньгами пришел?»
«Воды хочешь?» — спросил Псти-Пучур. На его рябом лице, в невидящих глазах появилась тревога. «Там, — показал Сашах, и, вспомнив, что нищий не видит, добавил: «Пройди вправо, вперед. Там стол. Нашел? На нем ведро с водой, стакан рядом»». Псти-Пучур нашел стакан, наполнил его и медленно вернулся назад.
«Два дня пить хочу», — продолжал Сашах.
— Хлеба хочешь? — спросил нищий, и, не дождавшись ответа, достал из висящего на боку мешка свежий хлеб, сыр. Наверное, купил в магазине, ведь он никогда не просил хлеба.
— Ешь. Я купил, честный хлеб…
— Знаю, — сказал Сашах, — взял хлеб, сыр, но есть не стал. Слезы скатились на хлеб. «На твои деньги!»… Как «на его»?! У него, Сашаха, нет ничего, ничего не осталось, никого не осталось… Вытер слезы. Оживился попугай Фима. «Саша! — закричал он отрывисто. — Дай хлеб!» — «Кто это?» — удивился нищий. — Чего он хочет?» — «И он хлеба хочет…» — «Кто?» — спросил Псти-Пучур. — «Попугай. Один родственник у меня остался…»
Когда Псти-Пучур решил уйти, Сашах достал из кармана деньги, и сказал: «Подожди, возьми». — «Что?» — удивился тот. — «Пятнадцать копеек…» Нищий окаменел, на неподвижном лице стало заметно волнение. — «Не надо, ага». — «Надо, — сказал Сашах, и чтобы обратить все в шутку, добавил: — Как дела, Псти-Пучур?» — «Эх, — вздохнул тот, — хлеб подорожал, человек — копейку стоит…» — «Нет, — покачал головой Сашах, — хлеб подорожал, но человек остается человеком, если родился им. И нищий, и богатый. Одна человечность остается, она, как хлеб, дорогая, и такая нужная…»
Псти-Пучур молча покачал головой, взял палку и ушел.
Вслед ему раздался крик попугая Фимы: «Дай хлеба!..»