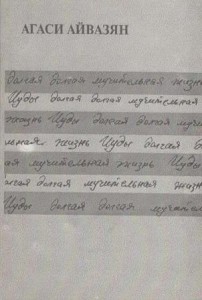ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Продолжаем публикацию книги Агаси Айвазяна «Долгая, долгая, мучительная жизнь Иуды». Благодарим Грету Вердиян за предоставленную возможность публикации.
- Ага-Хан
- Простой человек
- Белый рай
- Заристы
- Шестой палец
- Небородная
- Протяжённость слова
- Низведение
- Рассказ, написанный на парижской салфетке
- Идея
- Вечер пожилых волков
- Будущее позади
- Испанский язык
- Пожилой боксёр
- Месяц туты
- Амкарство часовщиков
- Стереотип
- Занятие на этой земле
- В объятиях жизни
- Мухамбаз с дудуком
- Яма
- Список
- Долгая, долгая мучительная жизнь Иуды
- Мопассан
- Две стилистические ошибки Кнута Гамсуна
- Борхес
- Бунин
- Повторяющиеся посещения Моны Лизы, или трагедия предметности
Главы из документальной киномистерии «Объектив-18»
1. «БЕДНИ» ДЖИОТТО
Бедни Шио
Сапоги Шио.
Вывеска старого Тифлиса.
Бедни Лова
Хазеин слова
Наколка на груди моего соседа
Вначале я узнал имя Джиотто, а потом уже Джотто. И удивился, почему имя художника итальянского Возрождения написано неправильно. На обложке детского журнала «Кармир цилер» («Красные ростки»), издаваемого в тридцатых годах в Тбилиси, в углу рисунков, изображающих пионеров «всегда готов», иногда появлялась подпись Джиотто, сделанная армянскими буквами. Так я познакомился с именем Джиотто. И лишь гораздо позднее я узнал, что все то время, пока Тбилиси выявлял себя, свой образ жизни с модификацией «ретро» на сегодняшний день,— со своими танго-фокстротами, хлебными очередями, футболом в длинных трусах, с журналом «Грузинский безбожник», органом все грузинского центрального совета союза воинствующих безбожников, с Далилой певицы Фатимы Мухтаровой, с игрой в кости на берегу Куры, с джазом Утесова, с профсобраниями,— Геворг Григорян, сам себя прозвавший Джиотто, запершись в своей маленькой комнатке, писал своего «Есенина», свою мать, писал автопортрет, искал гармонию локальных плоскостей. Он тяготел к кубизму и конструктивизму, но незаметно для себя приносил на свои полотна тусклый отзвук потертых архалуков кинто и карачохели старого Тифлиса.
Джиотто рисовал и ждал. Ждал… вечности. Он жил для будущего. Трудно было сказать, каким чувством времени он жил и какое измерение для него имела вечность. Потому что, идя назад, на расстояние пятисот лет, он добрался до флорентийца Джотто, и, наверное, называя себя Джиотто, он, по крайней мере, предвидел будущее на пятьсот лет вперед. Нетленности его должно было быть пятьсот лет, по-видимому… И живопись для него была пропуском в зто бессмертие. Пусть лучше картины живут пятьсот лет, чем он сам, скажем, все восемьдесят лет своих мирских удовольствий. Он рисовал и ждал. В те годы его картины никому не были нужны. Его небольшие натюрморты в окружении монументальной, деловой и шумной живописи тогдашних выставок напоминали затянутые паутиной вещи усталого старьевщике. И он ждал. Он был уверен, что эти напыщенные полотна однажды лопнут, кам пузыри, а его маленькие, внешне скромные картины выведут его на длинную дорогу и подобно ракете уведут в бессмертие.
Мне, студенту Художественной академии, поклоннику Репина и Чистякова, Джиотто казался каким-то поблекшим, любительским и «неграмотным» явлением старого Тифлиса. Но самым трудноперевариваемым мне казался его псевдоним «Джиотто», который вызывал нечто вроде смятения, словно с каким-то серьезным видом он щекотал под мышкой, и ты растерянно думал и не знал, принять ли это всерьез, или считать шуткой. Таким был и Тифлис: в своей грусти — потешным, а в потехе — мудрым и трагическим.
И спустя многие годы, когда Джиотто, наконец, получил признание, когда он, кажется, стал на пороге той двери, на которой всю свою жизнь он писал «Бессмертие», он уже не имел времени ждать, с какой-то тревогой смотрел он вокруг и чувствовал потребность услышать слова о прожитой им жизни, о своей великой жертве. Он чувствовал сложную биографию моего отношения к нему и иногда наивно, как ребенок, хотел
разговорить меня:
— Ты не любишь меня, ты Сарьяна любишь…
В другой раз он запротестовал сильнее и более гневно:
— Жалко вам написать две строчки о художниках… Ну конечно, художник — это не киноактриса или режиссер, чтобы напечатать на обложках журнала… Кино живет секунду…. Если не напечатаете, завтра никто не вспомнит. Мода, черт возьми… Не дело для серьезного человека…
Он не мог и представить себе, какое воздействие окажет на меня его детское упрямство.
«Живопись — тоже кино,— сказал я про себя. — И вообще все на свете — это кино, зрелище, показ, выставка, внешняя сторона существования!..».
Я даже рассердился на него, что он представления не имеет о мученическом труде в кино, что, спокойно запершись в своей комнате, на маленьком картоне создает, накапливает свое «бессмертие», а в кино видит экран только как полотно, лишь как композицию, сделанную аппаратом, как писатели видят в кино только слова, только литературу. Потом мое недовольство переместилось на кино. В самом деле, чем мы заняты? Ночами, когда люди спят, ждем актеров, ждем машину, нужно-не нужно ссоримся, как мальчишки, кричим, хочешь-не хочешь обижаем людей и сами терпим обиды, пугаем их и сами боимся, нервируем и сами нервничаем… Чтобы сшить одежду XIX века, надо достать материал, затем бежать в бухгалтерию, здесь такая сумма не предусмотрена, хоть головой об стенку, хочешь снимай Замбахоза[1] в джинсах (иногда так и делаем), но только давай план, в противном случае руководство киностудии или худсовет скажет: «Знать ничего не знаем, эпизод должен быть сдан вовремя, иначе…».
Если достал ткань, надо ждать портного (потому что внешний образ создаешь вместе с портным), потом надо просить актера, чтобы в эти дни не очень увлекался едой, так как брюки вышли узкими, и он может не поместиться в них… Потом надо снова просить директора труппы, чтобы тот попросил у ревизора-бухгалтера разрешения купить на два метра материи больше предусмотренного, потому что актер заболел и вместо него снимается здоровенный тяжеловес…
При удачном исходе всего этого правая часть композиции одного кадра обеспечивается только брюками. И это результат мучений целого рабочего дня.
Кино явилось выявить ту ложь искусства, которой избегали Гоголь и Толстой, очищенные и великие души. Оно обнажает ремесло, «делание» искусства, как безумный, выносит на первый план, демонстрирует именно ту сторону искусства, от которой отказывались очищенные страданием души. Недаром Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Я уверен, что это было его наилучшим произведением. Если бы у него была возможность, он уничтожил бы все свои творения, но это было уже не в его руках. Он хотел сжечь условность, ремесло, «делание» искусства, поскольку он достиг правды своей сокровенной сути. А искусство было внешним, демонстрирующим самого себя, даже во время углубления, выявления своего нутра оно одеянием прикрывает подлинное в человеке, условностью искусства заслоняет суть жизни, то великое, находящееся в сердцевине, которое человек с трудом понимает сам и под конец уносит с собой… В своей исповеди Гоголь говорит, что из всего созданного им представляют ценность только редкие куски из его писем, тем самым отказываясь от «делания» искусства. И сколько художников уничтожало или пыталось уничтожить свои художественные проявления! Достигнув признания, они чувствовали отвращение к созданному ими, видя в нем позу и показную сторону жизни.
В конечном счете и живопись, дорогой варпет[2], любимый Джиотто, в этом смысле то же кино — со своеобразным корыстолюбием и позерством.
Все это я только подумал, а произнес одну лишь фразу, но и этого было достаточно, чтобы Джиотто как-то сник и взгляд его стал колючим.
2
В этой стране лежит также великолепный
город Тифлис, окруженный многими
предместьями и замками, в которых
живут христиане-армяне, георгиане,
многие сарацины и евреи… Там делают
много тканей из шелка и других веществ.
МАРКО ПОЛО, 1286 г.
«Путешествие по Татарии и другим странам
Востока венецианского дворянина»
Тифлис, бывший долгие годы «столицей Армении» на чужой земле, всегда являлся подмостками, художественной ареной не только для выражения армянского духа, но и для создания его художественного образа, художественной конструкции. Волею судьбы Тифлис во многом исказил строгую и твердую, сдержанную и локальную фактуру армянского облика, но и сам приспособился, видоизменился, скроился по его образу и подобию. Образ старого Тифлиса вызывал ностальгию и уже превратился в пестрое собирательное понятие. Тифлисская среда питала художников, и кого она успела сформировать, тот уже не мог отойти от ее фантасмагории. Бажбеук-Меликян под конец жизни пытался изменить мистическую «обитель» своей эстетики и всякий раз впадал в умозрительный схематизм. Для выражения армянского духа ему нужна была тифлисская метаморфоза, где богоданная нагота и ясность армянских гор прикрывались затейливыми масками извращенных итальянских фокусников, где верность и глубина чувств стыдились своих крайних выражений и сами себя высмеивали, умышленно деформируя самые серьезные свои проявления. И чтобы не терять связей с этой эстетической химерой, тифлисцы в Ереване, не сознавая того, творили Тифлис — чтобы избавиться, освободиться от него. И каждый выкалывал-вытягивал из тифлисского клубка собственную нить: один вытаскивал Эрзрум, другой — Джугу, третий — Муш… Эти нити в свое время (и непрерывно) входили друг в друга, наматывались друг на друга и создавали внутренний и наружный вид Тифлиса. Им дорога была не только эстетика Тифлиса, но и его документальный материал.
Кинематографисты, художники, писатели воссоздали этот многовековой волшебный мир, караваны которого скрылись-исчезли под завесой прошлого и который становился не то Библией, не то анекдотом. Они припоминали его каждый в меру увиденного, прочувствованного, в меру возможностей своей памяти. По щепотке, помогая друг другу, эти художники восстанавливали улицы, дома, духаны, вывески, имена, характеры, в конечном счете — собственную жизнь. Самый молодой из них, «апологет теории кинтоиэма», Тельман Зурабян подобно челноку сновал между старым и новым Тифлисом. А один из пожилых художников Иосиф Каралов вспоминал:
— Гиго Шарбабчян однажды в день кейнобы [3] каким-то образом взобрался на минарет мечети, что находится около «Ишачьего» моста, раскрыл этюдник и стал писать религиозный обряд на Шейтан-базаре.
А я подумал, что мюнхенский этюдник Шарбабчяна до сих пор находится у меня дома. С этим этюдником прошла моя молодость, к нему было приковано внимание студентов двух курсов Ереванского художественного института. Еще я вспомнил, что после смерти Шарбабчяна мы, студенты Академии художеств Тбилиси, покупали у его вдовы полотна художника, чтобы снова… рисовать на них (полотна были немецкие и подрамники у них были хорошо сделаны). Мы, молодые варвары, своим художественным лепетом уничтожали не только живопись, но и прошлое. В те годы под многими моими этюдами оставались погребенными работы последнего периода Шарбабчяна, Кроткова и даже Башинджагяна.
— За нашим домом, на Серебряной улице был парикмахер,— вспоминал Ерванд Кочар.— На вывеске его магазина были нарисованы ножницы — Пикассо мог позавидовать…
— Наверное, их Карапет Григорянц нарисовал,— сказал Джиотто,— все вывески в окрестностях кабачка «Симпатия» принадлежали ему.
— Кто знает,— от трубки Кочара исходило благоухание, точно трубка была занята воспоминаниями.
— Тифлис был городом «бедних», — и Кочар принялся припоминать:
— На Абас-Абадской —«Бедни Васо», в Песках «Бедни Хечо», в Сирачхане «Бедни Серго» и «Бедни Микич», возле «Ишачьего» моста —«Бедни Гево» и «Бедни Шио»…
В глубине — на залитой вином скатерти моих воспоминаний послышалось нытье дудука, щемящее душу и родное, перед глазами встали эти «бедние», образы их были призрачными, фантастическими.
Некоторые из них, те, что смогли состариться, сильно потрепанные, несущие уже только собственное отражение, изредка появлялись у Гиго Зазиашвили, оставшегося в живых друга Пиросмани и Карапета Григорянца. Они долго еще сохраняли свои неповторимые прически, неповторимо забавные усы, даже «неповторимые» носы и свою «бедность». Слово «бедни» не означало, что человек этот бедный, жалкий или нищий. Многие из них неплохо зарабатывали. Это «бедни» означало их место в Тифлисе, а вернее, их бренного тела в этом жестоком и непонятном, а этом преходящем мире. В слове «бедни» заключена была душа Тифлиса, его мудрость, его подлинность, самая краткая и всеобъемлющая — подобно сократовскому «Познай себя».
Художник Зазиашвили, будучи сам примитивистом, не любил примитивистов и стремился к профессиональному искусству. Он делал портреты по всем канонам живописи, и в годы войны как раз напротив моего дома, по Песковской 37, он открыл живописную мастерскую, которая оформляла флаги и увеличивала портреты погибших на фронте воинов. Я иногда захаживал к нему и, чтобы заработать денег, помогал ему. Не знаю, насколько нужна была ему моя работа, но он испытывал наслаждение, поучая представителя «профессионального» искусства, студента Академии. Наивно рассуждая о канонах живописи, он смотрел на Пиросмани и Карапета Григорянца свысока и высмеивал их «безграмотность» в живописи. Он не чувствовал, что отсюда и начинается его позерство, которое отдаляло его от чуда искренности Пиросмани, подлинного чуда, чуда «бедних». И мне кажется, отсюда и начинается то кино, о котором говорил Джиотто. Фотография Зазиашвили как члена Союза художников Грузии была напечатана в справочнике Союза. В его величественном и полном чувства собственного достоинства облике было что-то напускное, желание убежать от «бедних»…
Но «бедни» было не просто словом или модой, чтобы так сразу исчезнуть из Тифлиса. Времена наступили иные, и слово «бедни» из вывесок духанов перешло в виде наколки на тела людей: на берегу Куры или в бани на телах тифлисцев можно было прочесть: «Бедни Андо», «Бедни Кола», «Бедни Сурен», «Бедни Лова, сердце слева». Последнее означало: «Сердце мое слева, я ни от кого не скрываю, где оно, хочешь люби, хочешь стреляй в него. Показываю, чтобы ты легко нашел, вот оно, дарю тебе».
— Карапет Григорянц очень любил сапожника ««Бедного Шио», жившего около «Ишачьего» моста, — сказал Джиотто. — Всех, кто приходил к нему, он вел к Бедному Шио, словно к статуе Воронцова-Дашкова. Он повел к нему Зданевичей, польского художника Дзигу Валишевского и даже посетившего Тифлис Сергея Есенина, который, увидев в «Симпатии» фрески Карапета, захотел познакомиться с их автором. А Карапет повел его к Шио… «Мало разве «бедних» художников в Тифлисе, что ты повел его к сапожнику?» — сказали Карапету. «Не понимаете, — обиделся Карапет,— я буду писать пьесу вроде Дон-Кихота, но только тифлисский Дон-Кихот должен быть другим. Он должен быть как Бедни Шио или как Бедни Гево». Карапет и меня взял к Бедному Шио. Он был кахетинец, фамилия его была Молодинашвили. Хороший был типаж для зарисовки. Нос крупный, лицо постоянно небритое… К тому же выяснилось, что латать сбувь он не умеет. Никто к нему и не носил обуви. Откуда-то доставал он рваные башмаки и между беседой и выпивкой стучал молотком. А людей было вдоволь — кинто, карачохели, крестьяне… Когда между делом людям хотелось поговорить с кем-нибудь, душу отвести, они шли к Шио.
— Гоголь сжег свои «Мертвые души», чтобы дойти до «Бедного Шио», — вдруг выпалил я, и глаза Джиотто снова стали колючими. В его взгляде можно было прочесть: значит, и нам сжечь свои картины, и Микеланджело— разбить свои статуи, чтобы стать «бедним»?
А через минуту он посмотрел на меня хоть и обиженным, но уже сочувствующим взглядом, как бы говоря: «А вечность, с чем мы придем к вечности?».
«Своей «бедностью», — подумал я про себя и более чем искренно. — Тифлисский «Бедни» та самая изначальная мудрость, к которой некоторые люди приходят после долгих размышлений, пройдя через жернова мук и страданий. Это изначальная сущность человека, простая, но всеохватывающая, отдаляться от нее — напрасный труд, все равно, следуя правде, придется снова возвратиться к НЕЙ».
Я посмотрел в детски-наивное лицо Джиотто, и мне стало ясно, что он тоже из тифлисских «бедних»…
Мне стало ясно, что если к «бедним» добавить «украшения» цивилизации, то после придется ценой больших усилий очиститься, избавиться от них, чтобы вновь обрести свою истинную сущность, свою «бедность». Многие, если не все, под конец жизни ищут одну истину, одну тропу, один уголок, где сидит «бедни» человек, сроднившийся со своей душой, отождествившийся с ней.
Таковы они:
Бедни Хачо
Бедни Гиго
Бедни Шио
Бедни Тельман
Бедни Гоген
Бедни Леонардо
Бедни Нарекаци
Бедни Джотто
Бедни Джиотто…
2. КИНОБОГЕМА
Ты, президент красавиц!
ЕТИМ ПОРДЖИ
Говоря «тифлисская богема», непременно подразумевают художников-примитивистов и уличных поэтов. Но была и другая богема, о представителях которой не пишут, ибо нет такой области искусствоведения, с которой бы они соприкасались. Разве только художественная литература может позволить себе полюбить этих людей, заняться ими.
Они создавали собственный мир и ничего не просили взамен — ни славы, ни признания, ни платы… Они жили славой других, красотой других, они вдохновлялись возможностями и проявлениями человека. Мое сердце не различает их от людей литературной и художественной богемы города. Жаль, что нет никаких доказательств их существования, кроме великой памяти, именуемой вечностью, и если хотите — Сильфидой. Даже я, в сердце которого с каждым днем растет тоска по ним, знаю их имена в обрывках — Николай, Ашот, Павлик… А Четвертого я знал лишь в лицо — высокий, худой, с нервным лицом, восторженными глазами…
Они творили чужую славу и увековечивали чужую память. Они давали глаза, чтобы люди могли видеть, сердце.— чтобы любить. Они творили кинолюбителя и создавали культ киноленты. Кино начинается с киноленты, и мы не могли оставаться равнодушными к киноленте. Лента была оригиналом кино, его книгой, и ее можно было приобрести. И мы собирали киноленты, составляли альбомы, обменивались и продавали. Мы говорили: «Дай два метра «Чапаева», «Почем метр Фатти?». «Дай десять метров «Пата и Паташона», «Откуда у меня десять метров, это же не хроника! Только метр, больше нет», «Знак Зорро» есть?», «А у Павлика есть четыре части «Гарольда Ллойда». «Четыре части!» — поражались мы и уже знали, что в Тифлисе живет недосягаемая личность по имени Павлик, и у него четыре части — одного только Гарольда Ллойда. Павлик сам по себе был кинобогемой, слово которого, взгляд, отношение к кино, его фантазия вокруг кино — были творчеством.
Мы шли к нему, робко жались у заветной двери, и один из нас, который имел счастье быть с ним знакомым, стучал в дверь, появлялась мать Павлика, и мы входили в дом как в церковь, и видели в ней Павлика, как видели бы святого Павла. И говорили шепотом, затаив дыхание, размещались в тесной кухоньке, в которой, если почесать голову, громыхала вся кухонная посуда. И Павлик своим самодельным аппаратом показывал четыре части Гарольда Ллойда. И тот, кто слышал жужжание аппарата «Патэ», видел работу этого «аппарата», сооруженного из кусков ржавой жести и выброшенных игрушек, тот никогда не мог забыть чуда кинотехники и ее человечность. То была величайшая академия для меня. До сих пор, смотря фильмы, я ловлю в себе взгляд Павлика и чувствую круговые движения его руки у моего виска.
Павлик денег не брал. Он творил.
И даже теперь, когда я почему-либо оказываюсь в Тбилиси, прежде чем посетить нашу старую армянскую школу, прохожу по улице Павлика. И я всем говорю: «Здесь жил Павлик». Все кивают, и, глядя на мое лицо, чувствуют, что я и в самом деле говорю о чем-то значительном.
Павлик погиб на войне. И было бы большим святотатством думать, что в углу запыленного подвала Павликиного дома остался его самодельный аппарат и четыре части Гарольда Ллойда. Я уверен, что они погибли вместе с Павликом на берегу Феодосии или в окопах Таганрога.
Второй был Николай, Коля, фамилии которого не помню, вернее, никогда не знал. Я знал его по увлеченности кино, и для меня он до конца остался человеком кино и было бы правильно дать ему фамилию Киноев.
Альбом лент и фотографий киноактеров Коли Киноева были шедеврами искусства. Мы собирались у него дома, что напротив кожно-венерического диспансера, и он, подобно факиру, демонстрируя фотографии и кадры, создавал тем самым новые фильмы, придумывал новые человеческие взаимоотношения, открывал новые континенты и моря, все подчиняя собственному ритму и нескончаемой бабины своей мысли. Он сам и был кино. И никто сегодня не может убедить меня в обратном. Если Пиросмани вместо холста доставал кусок жести или картона, одну кисточку и краски двух цветов, Коле для кино нужно было достать гораздо меньше: только свое воображение и свет внутри себя. А это больше, чем огромная киностудия, чем «Метро Голдвин Майер» или «Чинечитта». Это было трагедией кинопримитивистов, если можно так их назвать — создавать фильм только в своем воображении. Они были инструментами кинобогемы, а как же иначе можно представить себе кинобогему? Они были прирожденными ки-нематографистами, ибо это явление биологическое. Природа специально создавала их некими киноорганизмами, она создавала их искренность и непосредственность для кино так же, как создала искренность и непосредственность Руссо, Пиросмани и Етиму Гюрджи для поэзии и живописи. И их тоже природа обделила талантом приспособления и лицемерия, так же, как она не дала этого таланта Пиросмани и Етиму Гюрджи. И если она забирает у Пиросмани дарованное ею в виде куска грязного полотна, то у кинопримитивистов не берет ничего вещественного. Вот поди и ощути эту беспредметную гениальность, это невещественное искусство, эту беспредметную совесть!
Так Коля Киноев прожил свою жизнь, потому что другой жизни он не имел и так и остался человеком кино.
Друзья Коли на пропахшем овцами и хлороформом вокзале познакомились с бродяжкой, пожалели ее и привели к Коле домой. Пожалели и сошлись с ней все, кроме Коли, пожалели ее друзья и оставили у Коли. Так она и осталась у Коли. А Коля во всем этом видел кино. Быть может, мелодраму с участием Веры Холодной и Полонского, или трагедию — Эмиля Янингсона, не исключено и комедию (Коля прекрасно чувствовал жанры и эклектики не допустил бы), или нескончаемую библейскую притчу, которую пережили и Тулуз-Лотрек, и Ван-Гог, и Пиросмани и многие другие… Может быть, он открывал новое направление, новый «изм», свободный и непринужденный, со своим воображением и ритмом, озаренным теплом его сердца, светом его совести.
Бродяжка так и осталась у Коли. И Коля полюбил ее…
Позже, много позже я вспомнил киноальбомы Коли и решил навестить его.
Двор был пустынным и пропитанным запахом сырости. Дверь его комнаты была закрыта, за ней было темно. Словно она была на запоре лет сто. Я постучался, но безрезультатно, дверь словно стояла ко мне затылком. Хоть бы дверь сама сказала, что закрыта, как обыкновенная закрытая дверь, но она несла в себе таинство бесконечной закрытости.
Я позвал, громко закричал, голос мой покружил по двору и, обиженный, возвратился.
На втором этаже показался мужчина с вполне «домашней» физиономией и удивленно посмотрел на меня. По его удивлению я догадался, что мой зов был для него непривычен. Я спросил его: «Коля дома?». И он еще больше удивился моему вопросу. Молча вернулся в глубину своей комнаты, но я с возмущением крикнул ему вслед: «Не скажете, Коля здесь не живет?!».
Потом он задумчиво посмотрел на меня и сказал: «Постучитесь сильнее».
Все вроде стало на свои места, контуры нереального стали реальными, и тифлисский двор вновь стал тифлисским двором.
Я снова постучал, громче, еще громче и еще сильнее. (Реверберацию моего стука в пустынном дворе я после слышал во многих фильмах, и всегда режиссеры этих фильмов старались воссоздать настроение одиночества печального, заброшенного Колиного двора).
— Он неделями не выходит из комнаты,— пояснил сверху «домашний» сосед.— Болен…— с отвращением закончил он, и мне все стало ясно, но я уже стучался в дверь и отступать было поздно.
Наконец в темном окне словно привидение появился Коля — с застывшей улыбкой на восково-бледиом лице. Был полдень, Колина комната имела два занавешенных окна на улицу, и неясно было, то ли он избегал света, то ли высившегося напротив его дома медицинского учреждения. Комната была в сплошной темноте, хотя мне удалось разглядеть все, что находилось внутри. Мебели не было совершенно, только в углу пустой комнаты на полу виднелась фигура укутанной в лохмотья женщины.
Коля долго всматривался в меня и вспоминал что-то далекое, очень далекое, возможно — кино. Предприняв это дело, я уже механически двигался вперед.
— Альбом твой где? — спросил я, выговаривая лишь пустые звуки, потому что я не об этом спрашивал — какие альбомы, какое кино!..
Коля долго думал, словно во сне, потом пропал в темноте и появился, держа в руке два снимка — великолепную фотографию Дугласа Фербенкса в роли Д’Артаньяна и чудесного Рамона Новарро в облике тореадора.
Коля по-прежнему продолжал сохранять на лице жалкую застывшую улыбку, словно показывал рядом с ними и собственный портрет.
Я растерянно и принужденно смотрел на Дугласа, Новарро и на него, и не знал, что делать.
Из-под груды лохмотьев женщина слабым голосом, но грубо окликнула его, и хотя Коля не обратил внимания и с улыбкой на лице продолжал демонстрировать прижатые к оконному стеклу фотографии, я, несколько раз попрощавшись, отошел от двери, от Дугласа Фербенкса, от Рамона Новарро и печального облика Коли… И больше никогда не видел его, узнал только позже, что Коля умер в том же году, вместе со своей женой.
АШОТ. Когда старость еще не давала о себе знать, он ходил походкой Конрада Вейдта и получал от этого наслаждение, потому что постоянно чувствовал в себе облик немецкого киноактера и словно продолжал его жизнь на берегах Куры. Он улыбался улыбкой Адольфа Менжу и опять-таки не для демонстрации своего «я», а для того, чтобы постоянно чувствовать присутствие Менжу.
Ашота покинули все, потому что самым серьезным его занятием был старый киноаппарат «Патэ», и он казался ребенком или безумцем. Сегодняшняя кинотехника, потерявшая свое Люмьеровское чудо, его не интересовала. И люди не понимали, почему в эпоху цветных телевизоров он вытаскивал из земляного погреба своего дома первый киноаппарат и крутил рукой фильмы Чаплина и Линдера. Быть может, сегодня среди нас он самый точный орган чувств для выявления подлинной сущности кино, определитель того, откуда оно началось и куда дошло. А подлинное чудо кино, явившееся детищем XX века, революционером, обещавшим безумный взлет духа, со временем изменилось, исказилось, приспособилось и в умелых руках людей стало чем угодно, уютно пристроившись рядом с холодильником и стиральной машиной.
Первый «Патэ» — это тот примитив, который еще носил в себе чудо искренности, и я бы назвал его символом кинобогемы, для того чтобы различить подлинную любовь к кино от модной шумихи вокруг него.
АГАСИ АЙВАЗЯН
Перевод с армянского Дж. и И.Карумян
__________
1. Персонаж пьесы класска армянской литературы Габриэла Сундукяна «Хатабала», пожилой коммерсант.
2. Варпет — мастер, маэстро (арм.)
3. Кейноба — грузинское народное празднество, маскарад.