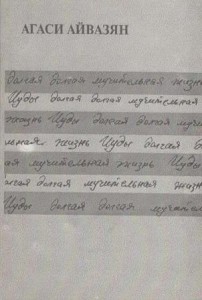ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Продолжаем публикацию книги Агаси Айвазяна «Долгая, долгая, мучительная жизнь Иуды». Благодарим Грету Вердиян за предоставленную возможность публикации.
- Ага-Хан
- Простой человек
- Белый рай
- Заристы
- Шестой палец
- Небородная
- Протяжённость слова
- Низведение
- Рассказ, написанный на парижской салфетке
- Идея
- Вечер пожилых волков
- Будущее позади
- Испанский язык
- Пожилой боксёр
- Месяц туты
АМКАРСТВО ЧАСОВЩИКОВ
Тысячу слоев шелухи надо было содрать с квартала Хева, с его помятых крыш, скошенных стен, кривых улочек, переулков и замшелых тупичков, отколупнуть от тротуаров горстки мусора и, подобно яичной скорлупе, разбросать во все стороны, чтобы из-за всего этого проклюнулся, наконец, дом Иосифа Македоняна [2]. Дом этот запрятался в чрево старого Тифлиса столь глубоко, что выбраться, скажем, в Мцхету или в Шулаверы было бы легче, чем добраться до Македоняна.
— Если хотите увидеть старый Тифлис, к чему вам дудук и шарманка? В Тифлисе есть и нечто другое — дно его, глубокое и безрадостное, где, куда не ткни, всюду боль,— сказал Иосиф Македонян.
— Я расскажу вам об амкарстве часовщиков. Нет, это не был обычный цех ремесленников, скорее, это был союз объединенных сердец, союз людей, утверждающих человечность. И именно здесь, в районе Хевы, скончались последние устабаши и последний подмастерье этого амкарства.
Устабаши Пирум завершил род часовщиков Окромчедловых. Дед его, часовщик из Джуги, послал сына своего Вардана в Тифлис — обучаться ремеслу часовщика, а Вардан направил сына Пирума в Европу — совершенствоваться в часовых дел мастерстве.
Я повстречал Пирума в Германии. Нет, там он вовсе не стремился овладеть мастерством. Вернее будет сказать, что мысли его были заняты тем, как превращать ремесло часовщика в своего рода философию. Я не сумел в ту пору правильно понять Пирума, не вник в его воодушевленные рассуждения о часах. А ведь Пирум пытался объяснить через часовой механизм суть времени, вечности и мгновения, определить взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Он проникал в сердцевину часового механизма и, расщепляя его, искал среди деталей и колесиков самую малую частицу, бесконечно малую, чтобы найти объяснение той хрупкой ресничке, что зовется жизнью, осмысливает сущность бытия.
Пирум Окромчедлов так увлекся изучением Времени, что наряду с работой в заведениях Мозера, Буре и Саркисова в качестве вольнослушателя стал изучать науки в европейских университетах. В Тифлис он возвратился всего лишь с одним потрепанным, побитым саквояжем, и ни у кого даже в мыслях бы не мелькнуло, что этот саквояж содержит в себе весьма приличное богатство — множество ценнейших часов, начиная от тех, которые были изготовлены знаменитым английским часовщиком Джоном Черрисоном вплоть до шедевров лучших современных мастеров.
Дом свой, расположенный в нашем квартале, Пирум перестроил по собственному проекту: первый этаж отвел под часовую мастерскую, второй — под жилые помещения. Вскоре его уже избрали устабаши цеха часовщиков. Через несколько дней после этого события Пирум привез откуда-то ученика своего, Огона, потрепанного, как тот самый саквояж.
Я всегда считал довольно прозаичным жизненный уклад мещан и обывателей, был уверен в том, что дни их текут уныло и однообразно, хотя строки жизни складывают именно они, и именно они берут на свои плечи всю тяжесть жизни.
Как-то в послеобеденный час устабаши Пирум, сытый и довольный, лег на тахту, устланную дедовским ковром, привезенным еще из Джуги, вытащил из-под подушки револьвер и, обняв его крепко, как обнимают обычно младенца, приставил дуло к своему сердцу. Так, насытившись жизнью и устав от нее, угас последний устабаши амкарства часовщиков.
Почему Пирум так поступил?
Я долго размышлял над этим и, казалось, понял — Пирум спешил, иной причины для самоубийства у него быть не могло. И ни тогда, ни, тем более, сейчас никто не мог бы сказать, куда именно спешил он и почему? Может, Пируму все же удалось проникнуть в тайну времени?..
В размеренном ряду смертей и похорон, то и дело свершавшихся в квартале Хева, свое место заняли смерть и похороны Пирума Окромчедлова. Одряхлевшее амкарство часовщиков с трудом набрало там и сям участников похоронной процессии и, согласно обряду, под звуки зурны и дудука, высоко неся изъеденные молью знамена, проводило своего устабаши в какое-то иное измерение времени, в иную жизнь.
С тех пор дом Окромчедловых как-то притих, поблек, укрылся за другими домами, и бывшего хозяина этого дома люди вспоминали лишь, когда у кого-либо останавливались часы. Неизвестно как и почему, из-за простого ли совпадения, или в силу вмешательства неких таинственных сил, Огон появлялся в Хеве именно в эти дни и тихо-молча копался в часовом механизме. Но незаметно, постепенно Огон исчез из нашего поле зрения. Может, часы у обитателей Хевы стали портиться реже, а может, была на то иная причина. Случалось, правда, что в рассветной дымке тень его, словно призрак, бесшумно скользила перед моим окном. Он все-таки присутствовал в Хеве, и в то же время его вроде здесь не было, людям даже казалось, что не было вообще никогда. Так временами кажется, что не существовало у нас далеких предков, или же, во всяком случае, были они бестелесными, и сейчас провожают нас нежными взглядами.
Впрочем, достаточно было, чтобы в конце улицы замаячил тощий облик Огона, как все понимали, что он все-таки есть, и Огон сразу же становился обычной реальностью, настолько обычной, что его присутствия попросту бы не заметили, если бы так резко не бросались в глаза перемены, происшедшие в нем. После каждого долгого отсутствия Огон появлялся словно в новом обличье, все более и более отдалявшем его от окружающих, а может, все более скрывающем под ссохшейся, потрескавшейся кожей его истинное лицо. Исхудавшее тело Огона напоминало мешок, перевязанный веревками, которые стягивались все туже и туже.
Иногда люди обращались к Огону с различными вопросами, имеющими отношение к часам, однако общаться с ним становилось все труднее и труднее, и расстояние между ним и окружающими все более росло. Постепенно волосы Огона отросли настолько, что ниспадали ему на плечи, борода покрыла грудь, и было уже выше человеческих сил не избегать его, не смотреть на него с ухмылкой.
Любое общественное мнение всегда ставилось выше реальных ценностей, и подобно всем остальным наблюдая за тем, как менялся Огон, я тоже решил, что он, конечно, спятил. Это ведь проще — думать так, как думают остальные. Но мне все же было искренне жаль Огона, и как-то ночью, когда он, словно призрак, объявился под моим окном, я протянул ему руку и сказал:
— Здравствуй, мастер Огон!
Словно не веря тому, что произошло, он подозрительно глянул мне в глаза, потом неуверенно и благодарно пожал мне руку. С тех пор Огон частенько искал меня — поначалу нерешительно, но потом, поняв, что я воспринимаю его именно таким, как он есть, стал все смелее подходить к моему окну, стучаться в него.
Я выходил из дома и вместе с Огоном долго бродил по пустынным улицам. Поначалу рассуждения его не выходили за рамки общеиззестных истин, чаще всего говорил он о часовщиках, потом, со временем, стал делиться со мной самыми сокровенными мыслями, и обличье Огона вновь претерпело изменения в моих глазах, и я понял, как велик запас его знаний. Высокий лоб свидетельствовал о том, что человек этот способен понять откровения собеседника, вдумчивый взгляд мгновенно реагировал на высказанные мной суждения, и, что самое удивительное, в процессе бесед с Огоном мысли мои словно обретали большую ясность и глубину, и слова, едва слетавшие с уст, еще не воплотившиеся в четкие формулировки, сразу обретали множество граней, и мне оставалось лишь определить, какая из них вернее отразит то, что я хотел сказать. И когда мысль моя сжималась в емкое предложение, я чувствовал, что она куда значительнее, чем сам я предполагал. Огон побуждал меня мыслить умнее, масштабнее.
Есть люди, которые способны охладить своим взглядом даже самый вдохновенный порыв, убить, припечатать к устам еще не слетевшее с них слово. И ты возвращаешься домой поглупевший и опустошенный, чувствуешь, что противен сам себе. Нет, Огон был не из таких. Он умел вникать в душу собеседника, в строй его мыслей и, может, именно это качество побуждало меня выходить на ночные встречи с ним.
Спустя всего лишь неделю я уже удивленно и разгневанно думал о том, что обитателям Хевы, должно быть, видится совсем другой Огон. Впрочем, еще неделю назад я воспринимал его так же, как они. Мне стало жаль Огона, искренне жаль. Его глубокие точные суждения были весьма привлекательны. Он знакомился с мыслями Платона, Ницше, Шопенгауэра, но не для того, чтобы углубиться в них, а чтобы понять глубину жизни или, как сам он говорил, изучить ее изнанку, нащупать колесики ее механизма.
И вдруг, в самый разгар искреннего и непосредственного обмена мнениями, Огон зацикливался на какой-то точке и сразу рушился на глазах, вскоре я понял, что этой точкой была его мать. При одном лишь упоминании ее имени Огон воспалялся, начинал говорить о ее мыслях, ее подсознательных стремлениях… Все это было неестественно и отвратительно, а для меня, не знавшего святыни большей, чем мать, попросту невыносимо.
После потока разъяренных излияний Огон вдруг брал себя в руки, виновато сжимался в комок и, не в силах изменить того, что произошло, тихо-молча исчезал в закоулках ночных улиц. Но проходило время, все сглаживалось, забывалось, и Огон снова появлялся по ночам, неся на кончике бороды сознание своей вины.
Во время наших бесед я постепенно понял, что он не любит и всех своих ближних. Это было нечто вроде перевернутой закономерности общепринятых человеческих взаимоотношений, их прямая противоположность. Не любил он, перво-наперво, свою мать, затем ненависть его распространялась на брата, на соседей, и, чем дальше человек, тем все более смягчалась она, шла на убыль… Поняв это, я невольно подумал: «А почему я должен быть для него исключением? Видимо, чем ближе буду ему становиться, тем меньше будет любить он меня». Подумал так и решил держаться от него чуть подальше. И действительно, сумасшествие Огона как-то раз обратилось и против меня. Во время очень спокойной и даже более деликатной, чем обычно, беседы, он вдруг в упор глянул на меня, побледнел, взволновался (я почувствовал, что если бы перед ним сейчас был кто-либо другой, он, возможно, даже ударил бы его) и, сделав некое-то странное движение рукой, бессвязно пробормотал: —Значит, вы тоже?.. Вы тоже?!.
— Что? — не понял я.
— Значит, вы тоже… — и, испытывая жестокое отчаянье, с горечью утрать! махнул рукой и стремительно удалился.
Я словно остолбенел. Я был разочарован и недоволен. «Глупец,— сказал я сам себе,— когда же ты, наконец, поумнеешь, когда ограничишь круг своих знакомых? Когда признаешь данность существующих взаимоотношений? Хочешь быть добрым? Но в мире этом имеется свой мудрый распорядок, и безумный останется безумным. Каждому отведено свое место в жизни, и не следует нарушать, редактировать этот распорядок. В конце концов, что дало твое великодушное отношение к тому несчастному человеку, от которого общественность отворотила свое лицо? Тебе хочется все улучшать, никак не можешь забыть, что ты редактор, жалкий редактор. В Париже тебя основательно ограбили, в порту Неаполя какие-то подонки поколотили за то, что пожалел проститутку, хотел наставить ее на путь истинный, «отредактировать»… Глупец ты, ну н глупец!..».
Вот так, обманувшийся в лучших своих надеждах, вернулся я домой и решил забыть Огона. Однако уже несколько дней спустя поймал себя на том, что снова думаю о нем. Перво-наперво я понял, что в моем филантропическом отношении к Огону был, конечно, элемент слабости, но был и интерес, что, пожалуй, превалировало. (Взять хотя бы то, что в присутствии Огона я чувствовал себя умней, раскованней, активнее жил своей внутренней жизнью. Помнится, подобные чувства испытывал я и на «Титанике», и в горах Баязета. Это было нечто, похожее на путешествие в неведомое. Итак, господин Иосиф Македонян, не занимайся самобичеванием, помни, что ради удовлетворения своей любознательности, своего интереса ты попадал и в более неприглядные ситуации.
Но все-таки, что прочел в моем взгляде Огон, чем объяснить причину ярости, внезапно охватившей его? Ведь я был чист перед ним, слушал его с любовью и верой в то, что он говорил, думал о нем хорошо, был доброжелателен. Я знаю это, я же знаю…
Нервы мои снова взвинтились. Но позже я стал анализировать, каким именно было мое внутреннее состояние во время того злополучного разговора. От нечего делать или, может, даже получая удовольствие, я копался в своем подсознании, проникая все глубже и глубже, пытаясь, по мере возможности, добраться до нижних его этажей, и с удивлением понял, что в мыслях моих, пусть потаенно, но постоянно вибрирует оттенок иронии по отношению к Огону. Поняв это, я аж остолбенел. Значит, Огон был прав — он прочел в моем взгляде то, о чем я и сам не подозревал. Видимо, Огон способен был видеть скрытый механизм, изнанку всего, проникать в суть вещей, не умея скрывать того, что разглядел. Ужасно! безумие Огона заключалось не в неверном восприятии людей и явлений, а в том, что он не был способен притворяться, вуалировать увиденное.
Я невольно задумался над тем, что все мы, должно быть, видим друг в друге много такого, о чем, как правило, молчим, и благодаря движению незримого колесика в механизме нашего мышления делаем вид, будто ничего не заметили.
Циферблат часов скрывает под собой механизм, приводящий стрелки в движение. Вот и мы под внешней оболочкой скрываем свои истинные мысли и переживания, тогда как у Огона внутреннее восприятие вещей и внешнее их проявление находятся в гармоничном соотношении. Он видит механизмы человеческой души без скрывающего их циферблата.
Бедный, безумный Огон!..
В течение нескольких дней я занимался своеобразными умственными упражнениями, и это было чем-то вроде игры. Я вглядывался в глаза людей, пытаясь понять их потаенные мысли и чувства, соотнести правду и ложь, но обыденное течение мысли разрушало все мои логические построения, я отвлекался от своих мыслей, подпадая под власть запахов, взглядов, форм, волшебства света и тени… Я ступал по бархатистой траве, не задумываясь о том, что скрывается под ней, вкушал различные плоды, и мне было безразлично, как и почему корни вытолкнули их на поверхность земли, я пил вино, наслаждался красотой природы и ничего больше мне не было нужно, ничего…
Помаленьку-потихоньку ушли в забвение воспоминания об Огоне. Я больше не встречал его на улицах Хевы. Кем он был? Откуда привез его Окромчедлов? Где обитал Огон — в самой ли Хеве, или приходил сюда из какого-то другого района, а может даже из другого города, другой страны, может — из Персии, или из того края, где обитали лезгины… Кто знает это, кто может что-либо сказать? И где родственники Огона, где мать, которую он так не любил?.. А может, и не было у Огона ни матери, ни родни, и все это существовало лишь в его затуманенном рассудке?.. Огон был бе¬приютен, как мифический Агасфер, был на этом свете один, один как перст… И постепенно полностью забылся, испарился бы из памяти обитателей Хевы образ последнего подмастерья амкарства часовщиков, если бы в один прекрасный день Огон снова не объявился здесь, теперь уже в каком-то новом обличье. Ом вел себя так, словно вокруг не существовало ни улиц, ни людей, ни окружения, и я понял, что он попросту не замечает ничего вокруг, не замечает и меня. Лицо его выражало страдание, и страдальческой была улыбка на этом лице, а глаза словно существовали сами по себе. Огон шагал, не останавливаясь, что-то бормоча себе под нос, и казалось, что он бормочет так, не останавливаясь, уже много дней. Время от времени из его бессвязного бормотания вырывались отдельные понятные слова и одно из таких слов положило начало четко выраженной мысли.
«Ад!.. Нет там никакого ада!.. Ад здесь, вокруг нас… Вот это истинный ад! А все мы сатанинские отродья! Я сам — сатана, называющийся человеком!..» — воскликнул вдруг Огон, да так ясно, внятно, что я оцепенел. Невольно подумалось: «Это уже его окончательный крах…» Потом вспомнил, как он угадал мои невысказанные, потаенные мысли. Однако я не сумел прийти к какому-либо заключению, ибо тут же подпал под власть его демонического безумия.
«Это улица страданий, улица мученичества с тупиками смерти,— продолжал Огон.— Я пришел сюда с площади нелогичности… Лицемерие освещает улицы… Страдания обретают здесь форму наслаждений, и материальное является высшим благом жизни… Все мы жаждем оторваться от сладкой и бессмысленной материальности, от самих себя, от сатаны… Сатана мучается в пламени огня, хочет спастись от самого себя. Я скорблю о сатане, жалею его. себя, всех вас… Человек — переходная фаза от сатаны… Знаете ли вы, какой путь прошли до того, как стали такими? Не губите свой тяжкий труд!.. Человек — это взлетная площадка для отправки в мир иной — в мир разума, счастья, полезных свершений… Не пытайтесь брать туда и ваши бренные тела, как это делают летчики, взлетая ввысь. Они совершают полет мухи, слепой механический полет, тогда как вам предстоит полет души. Летчики хотят унести ввысь и свою материальную оболочку — то, что всегда тянет человека вниз. Жалкие существа…Они хотят протащить в рай и свои низменные земные страсти, но это невозможно! В них говорит плоть сатаны, жаждущая невозможного… Готовьтесь к истинному полету, а если вы к нему не готовы, то знайте — полет не состоится. И вы останетесь на земле в обличье сатаны, останетесь в этом печальном мире пленниками силы притяжения земли, и будете оставаться до тех пор, пока адским трудом не подготовите себя к новому полету. Будете жить в поту и крови, будете существовать а чужом чреве, а кто-то другой — в вашем чреве, обретете обличье лошади, мыши, ворона, или еще чего-нибудь материального, и снова должны будете превратить себя в людей, чтобы иметь возможность подготовиться к новому полету…
Многие, чувствуя свое тяготение к материальному, хотят вернуться назад к скотской жизни. Один хочет воплотиться в кошку, другой — в лису. Но сатана существует на земном шаре вечно. Сатана — сырье, которое воплощается в воду, океан, вулкан, в золото и металл, и все это жаждет обрести душу, стать человеком, чтобы избавиться от тяжести материального… Сатане хочется в рай…».
Множество ушных раковин уже прислушивалось к излияниям Огона. Люди развлекались, слушая его, глядя на его жестикуляцию, и только старые женщины внимали ему с тяжелым сердцем. Одна из них, по имени Холос, не выдержала:
— Вуй ме!.. Что это он говорит!.. Называет сатану… Да лучше сквозь землю ему провалиться!..
Огон сжался в комок и словно онемел. Слова женщины дошли до его ушей, и он вдруг увидел окружающих его людей, улицу, дома — все, что до сих пор для него словно не существовало. Тяжко было смотреть в этот миг на его испуганное лицо, с которого постепенно стерлось всякое выражение, и оно словно стало просто пустым местом.
Огон засуетился, заметался, словно ища щель или дверь, в которую можно нырнуть, скрыться с наших глаз. Бросился к закрытым воротам и прижался к ним, потом к следующим, и уже в конце улицы, соединяющейся с Пески — другой улицей, более похожей на городскую, заметил открытый люк и проворно нырнул в него.
Какое-то мгновение все молча ждали, что Огон вот-вот высунет голову из люка и спектакль этот получит еще болое увеселительный характер, однако Огон так и не показался.
Мы подошли к люку и, склонившись над его отверстием, один из нас крикнул:
— Огон, Огон!.. Спятил ты, что ли? А ну-ка выходи! В ответ не послышалось ни звука. Огона словно не существовало.
И снова позвали его:
— Огон, выходи, задохнешься!
Все склонились над люком. Кожевенник Серго — самый трезвый человек среди обитателей Хевы, спустился в люк. Через некоторое время голова его появилась над отверстием люка.
Ошеломленно глянув окрест, Серго растерянно пожал плечами. Снова опустился вниз, и вместе с ним еще несколько человек, однако Огона так и не нашли. Решили, что, может, Огон знал какой-то другой выход, через который он и выскользнул.
Так исчез Огон.
А как-то раз, ранним утром, жители Хевы вышли на улицу и замерли от удивления — на дверях всех подъездов, на всех воротах со стороны улицы были вывешены их собственные стенные часы, со всех этих часов были сняты маятники и циферблаты, и зубчатые колесики, пружины, другие детали механизма работали всем напоказ. Поразительно! Кто, как умудрился среди ночи вынести из комнат столько больших настенных часов, прикрепить их к воротам и дверям парадных подъездов — нет, понять это было невозможно! Вряд ли это дело одного человека. И все решили, что виновником переполоха был Огон и это не иначе, как проделки сатаны. «Сатанинское волшебство,— говорили люди,— Огон совершил это волшебство, чтобы доказать свою правду…».
Македонян умолк, глянул на нас из-под своих густых, нависших над глазами бровей, напоминавших водосточные трубы.
— Значит, действительно свершилось сатанинское волшебство,— пошутили мы, хоть и сами не верили в то, что шутим.
— Волшебство было в другом, — усмехнулся Македонян, и показалось, что всю эту странную историю он рассказывал нам ради последних слов: — Волшебство было в том, как удавалось Огону проникать в наши сокровенные мысли, улавливать распавшуюся закономерность нашего мышления, приводящую к тому, что зачастую мы говорим одно, а думаем другое, зная правду, прибегаем ко лжи, понимаем, что может принести нам пользу, но действуем себе же во вред…
Кое-как выбрались мы из дома Иосифа Македоняна, затаившегося в запутанном клубке улочек и тупичков, а отойдя на некоторое расстояние, уже не верили, что когда-либо сможем вновь отыскать его квартиру под развалинами сказок и чудес старого Тифлиса.
Перевод Э. Канановой
________________
Амкар (арм.) — артельщик.
2. Иосиф Каспароеич Македонян (1854—1939 г.г.) — поэт, публицист, издатель и редактор, архитектор-самоучка В тифлисских кварталах Хева н Харпух все еще можно увидеть некоторые из его домов. Иосиф Македонян находился в числе пассажиров известного судна «Титаник» во время его гибели. В 1888 г. был свидетелем встречи графа Лорис-Меликова и Нубара-паши в французском городе Ницца. Принимал участие в русско-турецкой войне.