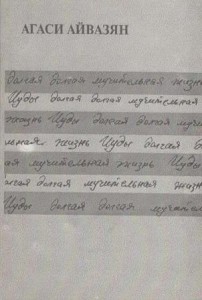ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Продолжаем публикацию книги Агаси Айвазяна «Долгая, долгая, мучительная жизнь Иуды». Благодарим Грету Вердиян за предоставленную возможность публикации.
- Ага-Хан
- Простой человек
- Белый рай
- Заристы
- Шестой палец
- Небородная
- Протяжённость слова
- Низведение
- Рассказ, написанный на парижской салфетке
- Идея
- Вечер пожилых волков
БУДУЩЕЕ ПОЗАДИ
Я вдруг вспомнил о нем. Вернее, он сам напомнил о себе. Все позабылось — и начало, и мои желания, хоть и преходящие, но все в себе заключающие, значения и следствия каждого моего поступка, и маленький паровоз моего детства —«кукушка», и… он. Оглядываясь на прожитую жизнь, я вижу даже свое будущее, оставшееся позади. Я миновал его, как маленький полустанок.
— Ты больше не обращаешься ко мне, — сказал он. Он был своего рода незримым Исповедником, поселившимся во мне. Я раскладывал перед ним всю свою жизнь — час за часом, шаг за шагом, вздох за вздохом, свою справедливость, свое отвергнутое добро, превратно понятую доброжелательность, впустую истраченные силы. Я поверял ему абсолютно все, без тени стыдливости, будучи убежденным: «Тебе же известно, что важнее всего — твое мнение. Никто, кроме тебя, не узнает о моем бескорыстии и честности, никто, кроме тебя, не узнает, сколь велики были мои страдания, никто, кроме тебя, не познает великого смысла, блага моей любви, никто, кроме тебя, не узнает сути моей доброты, никто не высчитает себестоимости моей чистоты».
Я поверял ему незаметные движения, выявляющие подлинность всего, внутренние взаимосвязи, высшую логику их сокровенной справедливости. Дотошно разъясняя мотивы своих поступков, я отдавал ему все без остатка, и он был хранителем моего естества.
Когда меня неправедно мучили, я был спокоен — он-то уж знает правду. У меня крали и меня называли вором, но я был спокоен — он-то ведь знает правду; меня обманывали и называли лжецом, но я был спокоен! — он-то ведь знает правду.
— Ты больше не говоришь со мною,— сказал он как ни в чем ни бывало.
— Да ну?..— сказал, а вернее — лениво проговорил я, ощупывая в пустоте его вопрос.
— Да…— ответил он.
— А я и не замечал… Вернее, даже не задумывался над этим. Но раз ты говоришь, значит, так оно и есть. Но получилось это само собою… Независимо от меня. Я не могу даже в точности сказать, когда и как прервалась наша близость, наше единство, на чем остановились наши беседы. Вместо памяти в моем мозгу — бескрайняя белизна…
— Я больше не нужен тебе?..— проговорил он, сознавая собственную беспомощность.
Я немного подумал.
— Нет. По-моему, нет.
— Жаль, — сказал он, и мне показалось, что произнес он это лишь с целью заполнить некую пустоту. — Жаль, хорошие были деньки. Быть может, все-таки найдется, что досказать о своей жизни?..
Я улыбнулся:
— Ты знаешь все… Все мое хранится у тебя… Едва ли кто-нибудь иной смог бы так искренне, так подробно и не стесняясь повествовать свою жизнь Исповеднику.
— Но я не был твоим обычным, материальным Исповедником…
— Да, я не ходил в церковь… И два раза меня проклинало духовенство… Но даже тогда я рассказывал тебе о своих мнимых грехах… Ты ведал больше всех, и я был спокоен…
Он замолк, и мы смотрели вдвоем на оставшееся позади ветхое строение Грядущего. Иногда и грусть вызывает улыбку, а это и есть суета…
Незримый Исповедник не намерен уходить и ищет предлог остаться подле меня еще немного. С беспомощностью покинутого влюбленного он просит, не смея надеяться на получение ответа.
— Может, ты все-таки припомнишь?..— и торопливо добавляет: — Это мне нужно… Ну, скажем, когда ты ощутил в себе мое присутствие?
Оставшаяся позади размеренная однообразная жизнь моя казалась редеющим облаком пыли. Я и в самом деле ничего не помнил, а то, что всплывало в памяти, было настолько пустячным и никчемным, что я способен был усмотреть лишь внешнюю фабулу, а сами же исповеди были так глубоки, так тонко сплетены и так трудно определимы, что даже мне не удавалось уловить их. Но чтобы не обидеть его, я начал:
— По-моему, лет шести от роду…
— По-твоему?..
— Да, в шесть лет… — вновь проговорил я и поглядел на облако пыли, чтобы представить, в какой же части его находится то время. — Помнишь, я был на даче. Мы ездили туда на «кукушке». Маленький мальчик, наш сосед по даче, предложил мне лечь под поезд, а за это пообещал свой ножичек… Я лег между рельсов, и поезд пронесся надо мною, обдав сажей и пожаром мое тело и белую рубашонку. Но своего ножика тот мальчик так мне и не дал… Помнишь?..
Исповедник усмехнулся, дескать, нашел, что рассказывать. И вправду, какое отношение имело это к нему? Мне вспоминается первое попавшееся… Сегодня все перемешалось — и существенное, и незначительное.
— А на что тебе?..
— ……….
— Что же мне припомнить?
— Что хочешь. Что-нибудь из наших бесед. Я вновь поглядел в сторону облака пыли.
— Помнишь нашу улицу?.. Такую старинную и родную!.. Среди чудесных домиков, населенных, чудесными и необычными людьми… Нашу улицу, которая в своем отрезке времени была вечной. На улицу выходило тысяча небольших дверей, а на каждой из них были написаны характеры и занятия обитателей. В одном доме жил Сасадидис — «Свободный художник. Уроки виолончели». В соседнем обитал уличный поэт Астаниса — «Революция есть бунт против собственной судьбы». В каждом дворике играл какой-нибудь музыкальный инструмент… А я каждый день ходил в оперу.
Помнишь, настало в мире время, когда люди, покинув родной кров, начали скитаться. Наш город наполнился беженцами. Но я продолжал ходить в театр, где голодные артисты пели итальянские арии. В тот день я намеревался послушать «Орфея» Моцарта. Путь мой от дома до театра пролегал по главной улице. А на ней было полно уличных женщин. В то время я не разбирался в людях. Я шел слушать Моцарта, а на улице меня схватила за руку какая-то женщина. С головой закутанная в шаль, намного старше меня. Она стала просить:
— Ты ищешь женщину, я знаю… Пошли со мной, я хороша… Их-то много, они все бесстыжие и наглые… всех отбивают… А я не такая, пошли со мной. У меня четверо детишек, мне надо купить им хлеба, хлеб-то дорог… Им есть надо, понимаешь? Не все ли тебе равно — с кем, смотри, я ведь недурна собой…
«Нет же, я иду совсем не за этим, я собираюсь слушать Моцарта, вы не за того меня приняли»,— смутившись, хотел ответить я, но бормотал какие-то бессвязные слова.
— Ну смотри, какая я красивая, какая крепкая… Мне четверых кормить, а в городе у меня — никого… Ну пошли со мной, — умоляла она.
У этой женщины были красивые и крепкие ноги, и рука моя впервые коснулась женской ноги… И я не пошел слушать Моцарта…
Эта чужая женщина повела меня по незнакомым улицам моего города, незнакомым тупикам моих улиц, незнакомыми двориками моих домов.
Я пошел за нею, потому что она пробудила во мне вожделение и пробудила сострадание. Но я мучительно вопрошал себя: пожалел ли я ее вначале, а потом — пожелал, или же наоборот: вначале пожепал и лишь после — пожалел, а может, мною овладел сплав двух этих чувств?.. Насколько помню, в те дни я бился над вопросом, кто же из нас был виноват в большей мере — она, ее голодные дети или же я?.. Она ли, совратившая меня, голодные ли детишки, толкнувшие мать на грех, или же я, пожалевший и пожелавший ее?..
Беспощадный к себе, я долго исследовал мотивы своего грехопадения, пока, наконец, не убедился, что вначале я все-таки пожалел и лишь потом — пожелал. И я был спокоен, ибо тебе это было хорошо известно.
Вскоре эта женщина исчезла и более не появлялась, но оторваться от улицы я уже не смог. Насвистывая Моцарта, я бродил по ночному городу, и каждый предмет, будь то дерево или столб, в темноте представлялся моему воображению женщиной, и я спешил к нему.
В те дни я дотошно докапывался до причины каждого влечения. Я не был грешником, и ты знал это… Но остальным я не мог этого разъяснить, для них не существовало внутренних подробностей…
А с улицы до тюрьмы рукой подать.
Я оказался в чудесной тюрьме нашего города, а впоследствии побывал и во многих других провинциальных тюрьмах. Я выкладывал тебе все и был спокоен, ты же знал все подробности. Тюрьмы были внешней стороной, мое же поведение — внутренней, у которой не было подробностей. Все вокруг заботились о внешней стороне, которая была позади, меня же занимало лишь сплетенье сокровенных истин — то подлинное, что было известно лишь тебе, и я был спокоен.
В тюрьмах, среди мошенников и бандитов, негодяев и лжецов, меня избивали и наказывали за избиение, предавали и наказывали за предательство, заставляли работать за себя и выставляли лентяем, съедали мою порцию и били меня за то, что я съел чужую; эти люди ненавидели улыбаясь и называли ненавистью мою угрюмую любовь. И внешне все это выглядело правдоподобным, ибо я не был знаком с механикой лжи. Только ты мог узреть гармоничную справедливость на такой глубине, под изуродованной и падшей, погрязшей во грехе наружностью…
Исповедник пристально глядел на меня. И хоть это сейчас не имело значения, я все же спросил:
— Ну скажи, ты же все знал и понимал…
Исповедник встревоженно посмотрел на меня, потом опустил голову и стал рассматривать носки ботинок, попытался улыбнуться, а затем снова поднял на меня незрячий взгляд и, отрицательно покачав головой, побрел в сторону редеющего облака пыли…
— Значит, ты тоже не знал доподлинного?..
И пока его фигура пропадала, растворялась в пыли, я увидел, как он вновь отрицательно покачал головой…
— Очнись..,— сказала нянечка дома престарелых, — обедать пора… Опять замечтался… Вас бы в психиатричку, а не к нам…
Был солнечный полдень, из столовой доносился запах борща, и старички уже постукивали ложками.
Опомнившись, я растерянно улыбнулся нянечке и принялся искать вставную челюсть, которую всегда прятал под подушку, а после отыскивал с большим трудом…
Перевод Е.Лазьяна