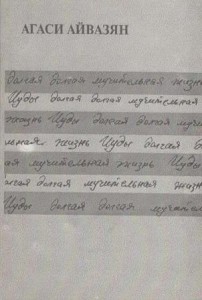ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Продолжаем публикацию книги Агаси Айвазяна «Долгая, долгая, мучительная жизнь Иуды». Благодарим Грету Вердиян за предоставленную возможность публикации.
- Ага-Хан
- Простой человек
- Белый рай
- Заристы
- Шестой палец
- Небородная
- Протяжённость слова
- Низведение
- Рассказ, написанный на парижской салфетке
- Идея
- Вечер пожилых волков
- Будущее позади
- Испанский язык
- Пожилой боксёр
- Месяц туты
- Амкарство часовщиков
- Стереотип
- Занятие на этой земле
- В объятиях жизни
- Мухамбаз с дудуком
- Яма
- Список
- Долгая, долгая мучительная жизнь Иуды
- Мопассан
- Две стилистические ошибки Кнута Гамсуна
- Борхес
БУНИН
То библейское положение, что сама мысль об убийстве уже есть убийство, делает нас всех убийцами, Достоевский зарубил топором двух старух. Он долго переживал подробности убийства, и он долго переживал подробности мук убийства. И это было тем более убийством в этом иллюзорном, воображаемом мире, что объем его материальной вещественности был велик. В малом объеме у убийства нет подробностей, нет мысли, оно рассеивается подобно эху, не успев занять места между материальным и воображаемым. И что более выдуманно — действие или мысль? Достоевский убил и своего отца — Карамазова. Достоевский был преступником. «Гений — это преступление»,— примерно так, кажется, сказал Томас Манн. Убивали все: и Шекспир, и Киплинг, и Стриндберг, и Агаронян, и Раффи… Убивал и легкомысленный Дюма, жанр которого позволял превращать убийство в легкую игру: несколько красивых поз, удар — и двадцать молодых французов падают бездыханными от руки другого француза. Причем без всякой причины. А Монте-Кристо в бесконечно долгие годы своего заключения в одиночке лелеял убийство как родную мать. На убийствах строила свои характеры одна из величайших жертв среди художественных натур — Эдгар Алан По. Это было даже не желание — начало мысленного процесса. Когда ищешь выход, создаешь алиби, находясь среди зловония под нечистой кожей греха, где холодно, время съеживаётся в своей собственной скверне, кутаясь в липкий тоскливый страх.
Мы вместе с прозаиком Мушегом Галшояном возвращались из Ленинакана. С нами был и кто-то из московских редакторов. Мушег все поглядывал направо, а раз не выдержал и сказал: «Перебраться бы на ту сторону, убить пятерых, и пусть самого бы убили!..». Московский интеллигент не сразу догадался: сюжета в этом или зародыша художественного замысла не содержалось. Загорелое грубоватое лицо сасунца было все время обращено к правой стороне горизонта, взгляд сосредоточен на чем-то внутри. Какая-то непонятность существовала для всех сидящих в машине. Клубок загнанной внутрь чувственности рвался, выплескивался из чистого и умного Мушега. Всего пять абстрактных должников чужого рода за одного конкретного человека. Шесть убитых… Фабула продолжения не имела, логика тонкой проволокой путалась в руках, вбирая в себя мои мысли, язык, губы, извилины мозга. Жизнь, наверное, такова. В извилинах мгновения. Так погибало множество армян. А в Стамбуле за мной таскался турок, чистильщик обуви, и с неизменной сладкой миной на лице клянчил разрешения начистить мои туфли, Я подумал: «Наверное, твой предок убил в Эрзруме моего предка». И сам себе стал противен от этого пустопорожнего умствования, которое было ничем иным, как кривлянием мозга перед безликой и равнодушной пустотой. Убийства, наверное, есть могучие и незримые мгновенья, и они движут историю.
Не убивал Иван Бунин. То есть, в его рассказах есть убийства, но они возникают при отсутствии пространства убийства, а точнее — пространство доведено до беспредельности. А для убийства необходимо очень маленькое, четко определенное, тесное пространство. Один из рассказов Бунина потрошит само тело убийства. А выпотрошенное, бестелесное убийство — уже не мысль даже, оно не достигает и истока мысли… А без мысли существование убийства как такового распыляется, растворяется, исчезает в пространстве.
Герой рассказа «Кавказ», который рассказывает о своем любовном приключении и живет своей незлобивой жизнью, встречается со своей любимой, женой другого, — как это делают герои многих русских писателей, не особо глубоко проникая в муки мужа этого предмета любви, «Из Геленджика и Гагр жена отправила мужу по открытке, написав, что еще не решила, где останется. Потом она с любовником спустилась по берегу моря на юг». И здесь, найдя очаровательный уютный уголок, они проводят дни в блаженном и человеческом простеньком своем счастье. Муж приезжает за женой в условленные места, Геленджик, Гагры, потом в Сочи, но и здесь не найдя ее, спокойно, как это описывает сам Бунин, «купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов». Но самое удивительное в том, что убийства-то в рассказе и нет. Он даже не убил себя — он просто вернул миру обширность Вселенной. И это совершенное двумя револьверами убийство очень похоже на легкий вздох умершей девушки из другого рассказа Бунина — «Легкое дыхание». Как пишет автор, «теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».
Друг моего детства стал жертвой репрессий сороковых годов — его арестовали по политическому обвинению. Оклеветал его школьный товарищ. После множества страданий — тюрьма, пытки, психушка, он через восемь лет вернулся домой. Он знал, кто его предал. В один августовский день я увидел, как он мирно беседует с человеком, погубившим его. «Это ведь он?,.» — осторожно спросил я. «Кто?» — не сразу понял он, потом, с трудом что-то припомнив, пожал плечами, «Первые дни в тюрьме и даже в психушке главной моей целью была месть, а сейчас внутри у меня ничего нет… Словно он и не виноват… словно никто не виноват… Не знаю, отчего это… И теперь у меня ничего нет против него».
Его «теперь» — это открытое время, жизненная сфера, которую Платон считал разумной, а Бунин — нравственной. И оба эти понятия очень легко сливаются друг с другом в «легком дыхании» вечности…
Однако я подспудно опасаюсь, что читатель от этих рассказов Бунина может прийти к выводу, будто жизнь без убийства — вообще штука бессмысленная… Спокойная нравственная безликость, доводящая до бездонной печали, отрицает самые основные элементы бытия. Эстетическая жизнь Бунина, подобно светло-зеленому ковру, раскатана над бесчисленными слоями земного шара, замешанными на бесчисленных костях…
Перевод Н.Алексаняна