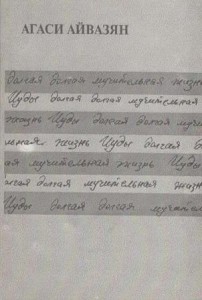ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Продолжаем публикацию книги Агаси Айвазяна «Долгая, долгая, мучительная жизнь Иуды». Благодарим Грету Вердиян за предоставленную возможность публикации.
- Ага-Хан
- Простой человек
- Белый рай
- Заристы
- Шестой палец
- Небородная
- Протяжённость слова
- Низведение
- Рассказ, написанный на парижской салфетке
- Идея
- Вечер пожилых волков
- Будущее позади
- Испанский язык
- Пожилой боксёр
- Месяц туты
- Амкарство часовщиков
- Стереотип
- Занятие на этой земле
- В объятиях жизни
- Мухамбаз с дудуком
- Яма
- Список
- Долгая, долгая мучительная жизнь Иуды
- Мопассан
ДВЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ КНУТА ГАМСУНА
Варварскую силу Турции норвежец Гамсун видел во всем. В уверенных движениях слуги, в молчании турка, в многословии грека, в разных предметах, таящих некий иррациональный, непонятный ужас, в шумной суете евнухов, в ядовитой пышности роскошных клумб… Даже направленный на него случайный тяжелый взгляд был для него напоминанием о могуществе Турции… И это не говоря еще о кривых ятаганах, полных золота базарах и строгом церемониале мечетей!.. Регламентированное и упорядоченное убийство может считаться в мире даже добродетелью. И гордое, и тупое молчание турка больше впечатляло Гамсуна и вызывало в нем больше уважения, чем красноречие грека о загадках бытия, пусть даже его устами вещал сам Гомер. Для европейского писателя мир имел один лик, и лик этот был отшлифован и устойчив, как клин, вбитый в тело земного шара. И рука, всадившая этот клин, была крепка и не ведала сомнений — есть лишь я, да моя воля наивного варвара! И вот теперь он обратил этот сиявший устрашающим блеском лик в сторону норвежца…
Ценой огромных усилий Гамсуну удалось, наконец, добиться аудиенции у султана Абдул-Гамида. И султанский дворец, и весь быт вокруг него, и обычаи лежали вне знакомого Гамсуну мира, и трудно было даже представить, что Европа, его знакомая, привычная, домашняя Европа находилась совсем рядом со всем этим. То была другая атмосфера, здесь царил другой миропорядок, и здесь дозволено было то, что где-нибудь в другом месте считалось недопустимым. У этого восточного мира была своя собственная мораль, и кровяные шарики Гамсуна с трепетом и дрожью поклонялись ей.
Султан Абдул-Гамид стоял перед ним.
— Что вы увидели в нашей стране? — спросил султан. Лицо Кнута Гамсуна выразило то, что должно было означать не только «все», но и то, что это «все» было «чудесно и невероятно»…
Абдул-Гамид был нелюдим со всеми, и только пристальный взгляд Гамсуна позволил ему увидеть на его лице чуть заметный проблеск снисходительного удовлетворения.
— Вы, европейцы, смотрите на нашу страну сердитыми глазами… Очень немногие понимают нас верно…
— Наверное потому, что лишь очень немногие верно понимают само бытие…— быстро ответил Гамсун, процитировав давно оформленную жизненным опытом собственную мысль, вполне уместную в данной ситуации. Сказал и даже почувствовал неловкость от того, что делал различие между европейцами и султаном, ибо Абдул-Гамид с самого же начала оставил впечатление прирожденно интеллектуального европейца. Его карие глаза открыто и добро глядели на писателя, и норвежец обнаружил в глазах султана гуманную личность.
Потом Гамсун, захлебываясь от своих впечатлений о Турции, произносил обрывочные фразы и не слышал сам себя — слова рождались лишь выражением лица султана, и лишь на ничтожный миг промелькнула на лице Абдул-Гамида почти неуловимая и ухваченная лишь отточенным пытливым чувством писателя тень недовольства,— и Гамсун сразу замолчал. Удостоившись под конец доброжелательных прощальных слов султана, он в сопровождении пышной почетной свиты покинул дворец.
Тридцать лет спустя Кнут Гамсун осуществил второе свое желание: он стоял перед Гитлером.
— Что вы увидели в нашей стране? — спросил фюрер. Лицо Кнута Гамсуна выразило то, что должно было означать не только «все», но и то, что это «все» было «чудесно и невероятно»…
— Вы, интеллигенты, смотрите на нашу страну яростным взглядом… Очень немногие понимают нас верно…
— Наверное потому, что лишь очень немногие верно понимают само бытие…— быстро ответил Гамсун, процитировав давно оформленную жизненным опытом собственную мысль, вполне уместную в данной ситуации. Сказал и даже почувствовал неловкость от того, что ставил различие между интеллигентами и фюрером, ибо Гитлер с самого же начала оставил впечатление прирожденно интеллектуального европейца. Его карие глаза открыто и добро глядели на писателя, и норвежец обнаружил в глазах фюрера гуманизм. Потом Гамсун, захлебываясь от своих впечатлений о Берлине, произносил обрывочные фразы и не слышал сам себя — слова рождались лишь выражением лица, и на ничтожный миг промелькнула на лице Гитлера почти неуловимая и ухваченная лишь отточенным пытливым чувством писателя тень недовольства,— и Гамсун сразу замолчал. Удостоившись под конец доброжелательных прощальных слов фюрера, он в сопровождении пышной почетной свиты покинул дворец.
В 1950 году девяностолетний Кнут Гамсун, нобелевский лауреат, вознамерился восстановить в памяти подробности бесед с Абдул-Гамидом и Адольфом Гитлером, и что-то в этих встречах наморщинило его мозг. Сохранив лишь яркое воспоминание о самих встречах, он в перипетиях и фанфарах прожитых годов напрочь забыл о самом содержании бесед. И лишь эта морщинка в мозгу все пыталась вспомнить причину столь мгновенно промелькнувшей на лицах Абдул-Гамида и Гитлера тени недовольства: что сказал он такого, что позволил себе в одной из фраз знаменитый мастер слова, если пусть даже почти, но скомкалась столь доброжелательная и вдохновенная беседа? И вспомнил Гамсун: в беседе с Абдул-Гамидом он произнес слово «армянин», а в беседе с Гитлером— «евреи». Скрипя натруженными костями, Кнут Гамсун повернулся на другой бок и с укоризненной улыбкой самокритично подумал: «Как можно было дважды повторить одну и ту же ошибку?».
Перевод И. Карумян