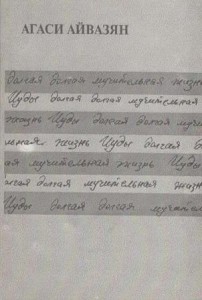ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Продолжаем публикацию книги Агаси Айвазяна «Долгая, долгая, мучительная жизнь Иуды». Благодарим Грету Вердиян за предоставленную возможность публикации.
- Ага-Хан
- Простой человек
- Белый рай
- Заристы
- Шестой палец
- Небородная
- Протяжённость слова
- Низведение
- Рассказ, написанный на парижской салфетке
- Идея
- Вечер пожилых волков
- Будущее позади
- Испанский язык
- Пожилой боксёр
- Месяц туты
- Амкарство часовщиков
- Стереотип
- Занятие на этой земле
- В объятиях жизни
- Мухамбаз с дудуком
- Яма
- Список
ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ, МУЧИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ИУДЫ
Следователь по особо важным делам посетил камеру предварительного заключения. То было второе его посещение арестованного. Дело было трудное, и если заключенный не был психически больным, то случай обещал быть необычным и загадочным. И следователь пришел на допрос с нетерпеливым любопытством. По всему было видно, что и подследственный с готовностью ждет его, и даже предвкушает приятное возбуждение от предстоящего разговора.
Спрашивать было легко, ждать ответов не приходилось. Диалог вел сам заключенный в некоем странном настроении. Словно этот допрос был целью его жизни и наконец-то наступил час ответа и самовыражения. В ответах — никакого желания прикрыть преступление, так, по крайней мере, казалось до сих пор следователю, мотивы развивались и разрастались, обогащая и украшая и без того пышный букет преступления. Дело уже можно было закрыть и без записи всяких отвлеченных рассуждений заключенного, которые никак не укладывались в принятые пункты обычной анкеты. Юридическая картина была ясна, ответ преступника определен и однозначен:
— Я убил.
Следователь подумал и спросил:
— Вам бы не хотелось обратиться к судебной медицине с каким-нибудь вопросом?
— С каким вопросом?..— преступник сразу понял смысл сказанного, но слово его опередило мысль.
Следователь. — Ну, скажем…
Преступник. — Понимаю… Что у меня умственное расстройство?.. Или что-нибудь в этом роде. (Решительно). Нет. Хотя в моем положении это был бы какой-то выход… Если бы я искал выхода!.. Но может случиться, что я обращусь к судебной медицине, чтобы доказать как раз обратное.
Следователь. — Даже так?
Преступник. — Да. Иначе моя беседа с вами лишилась бы смысла. Лишилась бы смысла вся моя сущность… Я убил девушку, но убийство — лишь слабейшая поверхность явления… Главное — это глубины убийства, его причины.
Следователь.— Причины? Да, конечно… (Некоторое время изучая свои ногти). На предыдущем допросе вы отрицали какую-либо причину или корыстные мотивы…
Преступник. — Да, полагаемые вами причины я отрицал. И продолжаю отрицать такие понятные вам мотивы, как грабеж, ревность или месть…
Преступник болезненно улыбнулся:
— Ни одно из них… Они вульгарны. Любое из них недостойно моего положения.
Сдобренное иронией недовольство захлестнуло следователя.
Следователь. — Вашего положения? Недостойно убийства?
Преступник ничего не ответил, и в его молчании 6ыло снисхождение к этому взрыву возмущения. На его лице было написано: «Дальше этого ты уже не в силах понять».
Следователь тоже впал в молчание, означавшее, что он готов выслушать все, что ни скажет преступник.
Преступник.— Убийство всего лишь конкретное проявление… Само по себе оно ничего не стоит. За ним кроется нечто более серьезное, огромная трагедия общества. Если вы в состоянии выслушать, я постараюсь доступно изложить вам все это. В ваших бумагах это, конечно, не уместится, но пригодится для вашей коллекции. И я даже питаю слабую надежду, что если вы не сочтете меня безумным, это принесет вам нравственную пользу…
— Мне?.. Нравственную пользу? — возмущение чуть было не захлестнуло следователя, но он замесил это чувство на густой и сочной улыбке: — Расскажите, постараюсь понять.
Преступник.— Вы, конечно, знаете о взаимосвязи сознания и подсознания. Ну да, безусловно, вы в курсе… Но я говорю об этом не для того, чтобы разъяснить вам, а чтобы сделать понятным мой феномен. Нет, точнее было бы сказать — чтобы представить вам подлинный облик общества.
Следователь не отрывал от него взгляда и думал об артистизме преступника, о столь хитроумной симуляции им душевного заболевания. Подобные случаи в его практике встречались, но более примитивные, грубые. Похоже, сейчас случай тот же, только настроенный на высокой интеллектуальности. И в следователе подняло голову уязвленное профессиональное самолюбие. Все в этой жизни ведет к одному и тому же, к тысячу раз повторенной схеме…
Преступник.— Я уже и не припомню, когда впервые в естественном устройстве моего мозга сверкнула эта чуждая, необычная мысль. В божественном, лучезарном зеркале возникло это обманчивое пятно — возникло от противного, враждебного всей первозданной гармонии,— бессмысленное и никуда не приводящее. И как оно своими алогичными судорогами и коварной улыбкой наносило исподтишка удары, стремясь восстать против веселого и солнечного сущего! Словно узурпатор какой-то… Оно хотело подменить собой, исковеркать счастливое и мирное, подмять под себя чистый облик бытия, разодрать светлую поверхность единства. Жадное и злое, это мутное пятно проползало под любовь и превращало ее в ненависть, ловко устраивалось под признательностью и обращало ее в неблагодарность, прилипало к точному и превращало его в сомнение, прицеплялось к истине и делало ее ложью… Копошилось все время, длиннохвостое и мудреное, с глубокими и непонятными корнями, с хитролживым взглядом, маленькой головой. Упорно и жестоко било и било оно исподтишка по небосводу мысли, по такой гармоничной постройке разума. Ни с того, ни с сего совало оно нос в верность и вливало в нее понятие измены, осторожно притворяло створку прощения и давало ему почувствовать сладость убийства. Противно, обратно оно всему, иссушающее душу и изматывающее нутро… Назло моей сущности, назло всему… Обратное, воинствующее и неистово обратное, неотступное и неуступчивое, тупое и хищное обратное!..
На восемь лет моложе меня была эта мысль-посягательство, которая засела у меня в мозгу. Тело мое хотело выплюнуть ее из себя, липкую и неудобную, но не могло.
Для меня в нашем доме то был первый гроб. И в нем лежала моя мать. Наверное, я плакал, наверное, я боялся… Кругом толпились люди. Столько людей в нашем доме я видел впервые. И людские подбородки, на которые я смотрел снизу, остались в памяти больше, чем собственные переживания. И вольготно живет в моей памяти рождение этой моей адской мысли… Для меня, по крайней мере, ее рождение связывается с этим горестным днем, когда я почувствовал первое шевеление ее кокона. Меня старались удержать подальше от гроба. И поскольку у нас была одна комната, меня занимали в прихожей, во дворе… Но вдруг я очутился прямо возле гроба. Я смотрел на лицо матери и рыдал. Мамина подруга, имя которой я забыл, наклонилась и прижала мою голову к своей груди, чтобы утешить меня. У нее была пышная и как-то сладко пахнувшая грудь. Это впечатление и было первой моей встречей с этой противной и зловещей мыслью. Женщина гладила меня по голове, утирала слезы… Подлая, предательская мысль о том, что женщина может оторвать меня от своей груди, заставила забыть про гроб и мать. Мысль эта улыбалась, приятно холодила тело… Чувствуя ее враждебную несвоевременность, я крепко сжимал губы, но она упорно диктовала свою волю. И я начал целовать грудь маминой подруги, вначале осторожно, потом безудержно, забыв обо всем…
То был первый, нежный росток моего подсознания. В течение лет я старался растоптать, вырвать его с корнем, но он всегда заявлял о своем улыбчивом существовании, щекотал, терзал мое нравственное устройство «Ну и мерзавец же ты, — подумал следователь. — Чего только не приходится порой выслушивать нашему брату. Всё на свете ищет объяснения, этот подонок тоже».
Немного переждав, проглотив слюну и набрав в легкие воздуха, преступник продолжал:
— А после, уже в школе, мы, трое друзей, играли во всевозможные игры, изготовляя вечные модели устройства и осмысления мира. Однажды мы примеряли на себе принцип верности. Взяв по горстке земли, мы стали ее есть. Со слезами восторга и умиления на глазах мы жевали землю как залог нашего единения. А в моем подсознании вдруг зашевелилась мысль: «Притворись, выплюнь землю, не будь дураком, кто узнает, съел ты или нет». Я попытался задушить эту мысль, но пока я был занят постыдной борьбой с ней, земля как-то незаметно вытекла у меня изо рта. Мы, давшие друг другу обет верности, воодушевленные, витали где-то в высших сферах, а из моего подсознания коварно улыбалась хорошо окопавшаяся там мысль и грозилась постоянно давать о себе знать.
Следователь. — Вы изучали медицину?
Преступник. — Нет. Я много читал… Я искал способы борьбы, способы преодоления подкорки.
«Он взял на себя функции обвинения,— подумал следователь. — Защита от противного».
Преступник, казалось, гонял его невысказанную мысль.
Преступник. — Вы мыслите правильно, профессионально точно, но ко мне это не имеет отношения… Продолжать?
Следователь. — Я слушаю вас.
Преступник. — В самых разных местах, в самое разное время появлялась эта моя подмысль, но подавлялась, задыхалась под общим прессом сознания. И вскоре это уже была не моя мысль, больше она со мной дела не имела. Сама по себе хлопотала она как крот под землей и глядишь — вырыла проход и показала свое загадочное, наглое рыло… Появлялась внезапно, подобно стремительному нашествию гуннов, подобно липким пальцам карманника в твоем кармане и все развивалась и усложнялась, отягчая «невинные» мальчишеские выходки и замысливая в своих недрах новые, противные сущему выходки.
Было время, когда она, коварно пресмыкаясь, выползала на мое лицо. Неуловимо и непостижимо прыгала она в морщинах моего лица, придавая ему выражение поистине устрашающее. Взгляд мой содержал столько жестокости, накатывал такой волной от улыбки к свирепости и от свирепости к улыбке, что люди отворачивались от меня. Дети плакали. Слабые сжимались. Взгляд мой причинял боль, внушал страх. По вечерам я не мог выходить из дому — в сумерках лицо мое делалось еще более угрожающим. Из-под многих слоев лютость эта поднималась вверх, к подкорке, и требовалась недюжинная воля и сила, чтобы сдержать ее, притормозить ее выход к сознанию. Искажение моего лица шло само по себе, особняком, по собственным причинам, и видимо, отдельно от меня самого. Жестокость вставило во весь рост и плясала, кружилась на корке моего мозга.
И я обратился к помощи врача. «Какое-то гнусное, зловещее выражение появляется у меня на лице, и я никак не могу противостоять этому, — сказал я.— Что бы я ни сделал, что бы ни сказал,— оно все равно ловчее и коварнее, оно хочет властвовать над моими мыслями, над моей душой, над моей сущностью. Я — одно, а лицо мое — другое. Мы несовместимы. Помогите, доктор…». «Надо сдерживать себя»,— ответствовал врач, глядя на меня этак дальновидно и уверенно. «Воли моей не хватает, я бессилен,— продолжал я.— Чувствую, что кто-то должен помочь моему сознанию. Придать сил, чтобы сознание мое выстояло».
Врач настаивал на своем, потом замолчал, и молчал он так долго, что конец этого молчания и сейчас тянется сюда.
Следователь усмехнулся, преступник продолжал:
— Подсознание имело свою биографию, свою жизнь (о рождении его я уже рассказывал вам). Оно зрело, развивалось, крепло с каждым днем… Я чувствовал, что оно не только против меня, но и опасно для других. И я все молил о помощи, жаждал содействия со стороны, чтобы общими усилиями задушить, уничтожить рвение моего подсознания. Но никто меня не понимал, люди жили налаженной жизнью поверхностности, и подкорка человечества никого не интересовала… И я думал — люди изучают сферы космоса, разрабатывают недра земли, в недра их существования остаются без какого-либо внимания.
В тридцать девятом году меня увели в комиссариат внутренних дел. Я настолько был углублен и втянут в самого себя, что даже при желании не мог впустить в себя внешний мир, а тем более принимать участие в общественной жизни. Мы, четверо молодых людей, иногда собирались у кого-либо из нас поиграть в нарды. Бывали мы не все вместе, а только по двое или по трое, в разных сочетаниях, смотря кто в этот день свободен.
В наркомате внутренних дел передо мной положили бумагу, где было сказано, что наша тайная организация разрабатывала программу освобождения (там, кажется, было написано — захвата) Западной Армении. И был представлен список тех, кто составлял эту программу «захвата» — примерно пятнадцать человек. Донос был написан одним из наших друзей. Положение было серьезное. Даже обычные предметы обрели здесь зловещий смысл. Нарды оказались не нардами, а неким таимым устройством, а карта Армении висела на стене нашей комнаты с сугубо политическими целями. Я почему-то все старался припомнить эту карту, что было нелегко, потому что карта была привычна как одна из комнатных вещей и уже и картой не представлялась. Мне предложили подписать донос с условием вывода меня из списка. Выбор был один — или остаться в списке или выйти из него. А что означало оказаться в подобном списке — мы все прекрасно знали. И из моего подсознания сразу поднялась затаенная подмысль и запрыгала на коре моего мозга. Я поставил свою подпись, и более десяти молодых людей (которых я не знал) исчезли, пропали в сумерках времени. Единственным моим утешением было то, что рядом с моим подсознанием стояло подсознание автора доноса.
Начавшись вроде бы с частных проявлений страданий, подсознание мое вскоре обернулось зловещим бедствием для меня. Безысходным и нелепым. Само по себе, возможно, и цельным, а для меня чуждым и несовместимым. Вы помните крушение поезда близ нашего города? Жертв было очень много. Я узнал об этом с опозданием. Но рядом с естественной реакцией — сочувствием и желанием оказать помощь — вновь подняло голову мое сырое и липучее подсознание и сказало… знаете… оно сказало: «Какая возможность — ограбить трупы…». А ведь это были трупы моих сограждан, и современников… И вновь — борьба с подсознательной мыслью. Она шла от палачей армянского геноцида, Освенцима, корни у них были одни и те же. И становилось ужасной бессмыслицей само мое существование. Радости мои путались, мешались с тяжелым кошмаром. Подмысль рвала кору головного мозга, она уже закинула вверх ногу, оперлась на локти и вот-вот выкинет вперед и туловище, чтобы своим отвратительным уродством прикрыть все светлые и утонченные очаги. Это была уже подсказка убийства — самой совершенной стадии обратного, последний предел для моего бедного, бессильного сознания.
Мне хотелось размозжить себе голову, расплющить, разбить ее, и я курил, чтобы она задохнулась от дыма, глушил водку, чтобы одурманить ее черный, безумный лик. Но ничего не помогало. Напротив, все только питало ее. И я в одиночку, обливаясь потом от усталости, боролся со своим подсознанием, прекрасно понимая, что тут нужна чужая воля, нужна помощь извне, чтобы преодолеть это огромнейшее бедствие, становящееся врагом для всех. Эти нелепые мысли, абсурдные, вздорные мысли!.. Почему, откуда они во мне? Что общего у них со мной? Они попали в мою конституцию случайно, незакономерно. Я занимался самовнушением, беседовал со своим подсознанием, но оно не подчинялось мне. Голос мой был слаб, не внушал почтения. Видно, по-своему цельная у меня натура, а внушение должно быть сделано со стороны, другими устами, другой волей.
Наконец я решил пойти к ДРУГОМУ, а этот другой, по принятой в обществе условности, должен быть врачом. Это ему надлежало вмешаться в мою борьбу, и мое же слово обратить ко мне.
Частная врачебная практика была запрещена законом. А в больницу обращаться мне не хотелось. Что я мог им сказать? Ничего у меня не болело. Здоровый, вроде, человек… Мое состояние ни под какую принятую формулировку не подходило. Мне нужен был я сам в чужом обличье, нацеленный против меня самого, чтобы он заговорил со мной моими словами… Представляете, попросить другого человека что-то внушить мне, помочь сдержать мое подсознание, чтобы оно не наползало на сознание! Кто мог понять подобную просьбу? А ведь я нуждался только в ДРУГОМ. Нуждался в ПОМОГАЮЩЕМ. Но к кому пойти и что сказать — что меня тянет на убийство? Что во мне зреет убийство, как зреет в душе любовь или музыка? Как сказать такое, мог ли у меня повернуться язык? Будь у меня грипп или даже рак (какое это было бы счастье!), то можно было бы объяснить, что и где болит… А то «подсознание властвует над сознанием, а подсознание преступно». Почему? Почему твое подсознание преступно?
И преступник бросил на следователя взгляд, которым словно просил позволения для следующей фразы:
— У иных преступно сознание, а подсознание рассудочно, расчетливо…
Какое-то сонливое настроение охватило следователя. Внимание его поблекло, и он ощутил, что пора уже выпутаться из этого замысловатого клубка слов и нездоровых чувств, выбраться из этих мутных вод в мир фактов, где все стоит рядом или против всего, и месте их давно уже определены. Но по-прежнему продолжал молча слушать.
Преступник. — И я решил обратиться к своему соседу. (Смешно, но он немного тугодум, и с ним легко найти общий язык… Я не стеснялся его… Это, может быть, для меня было важнее всего — рядом с ним я чувствовал свое умственное превосходство). Я вошел к нему и сказал: «Сосед, у меня к тебе дело». Он был в тот день не в духе. Я посмотрел ему в лицо, в его бессильные глаза, посмотрел на его безвольные губы, на висящий подбородок, и у меня опустились руки. Потом подумал: «Ну и что же? Человек как человек, у него есть язык, может говорить, сознавая произнесенное. Наконец, он тоже Божье создание и имеет право выполнить свое человеческое предназначение. И самое главное — он ДРУГОЙ. И он в силах воздействовать на мой мозг моими словами, моими мыслями, моей волей. Мне ведь нужна моя воля от другого». И я сказал ему: «Сядь напротив меня и скажи следующие слова: «У меня есть только одна мысль, мое подсознание подавлено, оно слабое, сумасбродное. Оно ни за что не сможет взять верх. Я сильный и мысль у меня одна — я не хочу и не могу совершить преступление. Я против преступления. И я в этом уверен».
Сосед мой рассмеялся, и разговор наш окончился смехом.
Преступник исподлобья посмотрел на следователя. И этот забавный эпизод как бы скрасил смехом и дальнейшую нить его воспоминаний. И нужно было переждать, чтобы он, усмехаясь и со скрипом смеясь, сбросил с себя облачко этого привнесенного настроения. Он вновь посерьезнел и продолжил:
— Оставалось одно. Найти яркую личность и обратиться к ней как человек к человеку. А такая личность, которая могла бы разобраться в моем состоянии и внушить мне что-то, должна была, по меньшей мере, иметь диплом психиатра. И я нашел такого человека. То был профессор Н. Но ни в одной больнице, ни в одной клинике мне не дали ого адреса. Так заведено. И я как нищий обивал пороги, чтобы узнать его адрес, побеседовать с ним, получить от него помощь. .. Так я и не смог узнать его домашний адрес. И я продолжал свою одинокую борьбу с подсознанием, которая становилась моей судьбой.
В подкорке моей уже угнездилось убийство. Это отвратительное, бедоносное чудовище, наглое и гнусное, приютилось в мозгу под добротой и самопожертвованием. Иногда створки почти перевертывались. Я — совсем другой, он — чуждый, противнодействующий, закручивал меня, принуждал враждовать с обществом и как в игре в лахти, ставил меня в центр круга, беснующегося и истерзанного…
Следователь.— И все же — почему вы не обратились в соответствующее учреждение?
Следователь постарался избежать слова «психиатричка».
Преступник.— Я ведь говорил вам, что это бесполезно… Если даже не принимать во внимание испытываемые мной стыд, чувство неловкости…
Следователь.— Чувство неловкости?.. Когда перед вами такая огромная ставка, как убийство?
Преступник. — Я сказал — если не принимать во внимание чувство неловкости… Это было практически нереально. Вы, по-видимому, не очень ясно представляете себе административное устройство подобных заведений. Меня бы так просто не приняли. Приемная, анкета… и разные там дежурные. И самое главное — я бы не встретил там личности… Того доверительного разговора, того взаимопроникновения и психоанализа, о котором я мечтал, там не могло быть… Я имел бы дело лишь с обобщенной научной мыслью… Впрочем, слово «мысль» здесь не совсем уместно, скорее «запас знаний»… К тому же, не надо забывать, что компасом официальной медицины всегда служит подозрение. Истоки ее обследования — это подозрение, политическое или социальное. А подозрительность — признак неуверенности в себе. Согласитесь, что столь необычное состояние подсознания, как у меня, не могло быть вынесено на площадь подозрительности, со всех сторон открытую, подставленную всем ветрам… Там властвуют только законы ограничения. Но даже и то, что представлялось мне возможным, не помогло мне. Ведь в конце концов я нашел дорогу к доктору Н., к человеку, в котором нуждался я и, можно сказать, все человечество.
На лице следователя появилась невольная улыбка, о появлении которой он и не догадывался. Он только чувствовал причину ее — этакое разудалое краснобайство преступника.
— Профессор Н. очень удивился, увидев меня возле своих дверей. «Приходите завтра в клинику».— сказал он. Мое отчаяние перешло все границы человеческого поведения, я готов был стать перед ним на колени. Увидев, что меня не удержишь, Н. пригласил меня войти, сел за письменный стол и, чтобы поскорее избавиться от меня, недовольно бросил: «Ну, в чем дело?..». Так сразу «а чем дело»… И обдумывая, в какую форму облечь свое слово, я обвел глазами комнату и увидел на столе у профессора раскрытый томик Евангелия. Я оторвал его от чтения. В теплой, уютной обстановке дома со средним достатком, с недорогой мебелью, мой случай выглядел каким-то надуманным, сумасбродным, и я не знал, с чего начать разговор о тирании подсознания, о его происхождении… Кое-как, обрывочно изложил я схему моего состояния. Он выслушал лишь столько и велел завтра зайти к нему я клинику, чтобы оформить там мое существование в этом мире. И обещал, что я буду иметь дело только с ним.
Следователь все больше утверждался во мнении, что у преступника умственное расстройство. Для государственного служащего слова «профессор» и «клиника» были весьма весомыми аргументами. «Завтра же сделаю запрос в клинику»,— подумал следователь.
— Знаю, завтра вы сделаете запрос в клинику…— догадался преступник. — И совершенно напрасно. Я пробыл там всего несколько часов, взял составленную на меня анкету и сбежал…
Следователь. — Сбежали?..
Преступник. — Да. Забыл сказать вам, что профессор меня обманул. Он поставил меня в общую очередь забыл обо мне. Ну а работники клиники ко всем подходят с одинаковой меркой. Первым долгом санитары обчистили мне карманы, полагая, что память у больных нарушена. Затем профессор прислал ко мне фотографа, чтобы обессмертить мой образ для их картотеки. Все делалось словно нарочно для того, чтобы придать новых сил моему подсознанию, чтобы оно окончательно высвободилось и стало властвовать над моим мозгом. Я разбил фотоаппарат и покинул клинику.
Преступник замолчал. И замолчал не потому, что ему нечего было сказать, а потому, что наткнулся на воздвигнутую следователем стену. Стена человека, которому все заранее известно. Для следователя все уже было до конца понятно, и слова преступника, идя к нему, натыкались на стену и возвращались обратно. И преступник понял, что допрос окончен.
— Все ясно,— легко и равнодушно произнес следователь и стал собирать со стола бумаги. И, уложил все это в папку, для приличия добавил: — Что бы вы хотели попросить у следственных органов?
Преступник, впившись взглядом в пустой и гладкий стол, произнес:
— Просьба?.. У меня есть требование. Когда меня будут обследовать для диагностирования, то примите мою убежденность, что я психически вполне здоров и готов доказать это ценой принятия самого тяжелого наказания…
Следователь нажал на кнопку под столом, и в дверях появился надзиратель.
Преступник поднялся, двинулся к двери, но вдруг остановился и посмотрел назад. Следователь похолодел, ему на миг показалось, что глазницы у преступника пустые. Но представитель закона в тот же миг вернулся в свое обычное состояние, слыша беспредельно усталый голос преступника:
— …Хотя свое наказание я несу вот уже две тысячи лет… Учитель легко отделался — за всеобщий грех… На моих плечах тоже всеобщий грех, но ему не видно конца, и я устал от его нескончаемости…
Взгляд следователя давно уже не был на нем. Представитель закона аккуратно застегивал свою папку и слегка улыбался — над чем-то своим, не имеющим к этому делу никакого отношения…
Перевод И.Карумян