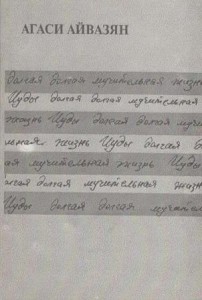ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Продолжаем публикацию книги Агаси Айвазяна «Долгая, долгая, мучительная жизнь Иуды». Благодарим Грету Вердиян за предоставленную возможность публикации.
- Ага-Хан
- Простой человек
- Белый рай
- Заристы
- Шестой палец
- Небородная
- Протяжённость слова
- Низведение
- Рассказ, написанный на парижской салфетке
- Идея
- Вечер пожилых волков
- Будущее позади
- Испанский язык
- Пожилой боксёр
- Месяц туты
- Амкарство часовщиков
- Стереотип
- Занятие на этой земле
В ОБЪЯТИЯХ ЖИЗНИ
У входа в клубы, или внутри них, а иногда и внутри, и возле входа установлено было портретное созвездие членов Политбюро — словно некое законодательство в лицах. Привычное, и постоянное, настолько постоянное, что уже воспринималось как часть архитектуры, и настолько привычное, что глаз и но замечал его присутствия.
А сейчас сумерки вобрали в себя город, главную улицу и портретный ряд. Сталин уже умер, в воздухе еще витали звуки траурной музыки Шопена и Шуберта, и изображение вождя все еще возглавляло портретную группу.
Клуб имени Горького был одним из самых темных мест города — из-за нехватки электричества. Две маленькие лампочки бросали тусклый свет на полотняную ткань портретов, а одна освещала движущиеся на танцплощадке ноги. Из разбитого репродуктора раздельно, как кашель, вырывались звуки фокстрота, и вместе с шарканьем ног свидетельствовали о жизнеспособности советского человека.
Я, человек печальный, кое-как устроился в этой клубной скуке. Само существование мое было чуждо танцплощадке — этому вечному раю обывателей, да и я, между нами говоря, ничего ценного не представлял для этого рая. Жил я, днем держась в тени, по вечерам — в сумерках, а по ночам — в потемках собственной меланхолии.
Одним из способов избавления от скуки было войти через ворота в клуб, уплатив за это рубль, а другим — выйти за ворота. И так постоянно. Сегодня я опять вышел за ворота. А на улице появился Жора — собственной персоной. Я замедлил шаг и хотел было отступить в ворота. Я избегал навязывать кому-нибудь свое настроение, а вступать в мясорубку взаимоотношений с Жорой, откуда я всегда выходил с чужим лицом, чужими словами, мне совсем не хотелось. Я не знаю, с какой таинственной интонацией произнести имя Жоры, какой изощренной мимикой дать вам понять его значение, чтобы вы не спутали Жору Лачинова с многими прочими Жорами. В нашей школе он был классом выше, потом вдруг исчез с горизонта и однажды появился в форме энкаведешника — аккуратный, с собранный и подтянутый. Сдержанность и внешняя скромность еще более подчеркивали его это новое качество. А еще могущественнее он стал позже, когда с него исчезла форма и тело его раз и навсегда облачилось в скромную гражданскую одежду. Но волей-неволей под его гражданским костюмом мысленно виделась форма, и эта раздвоенность взглядов делала его еще более влиятельным и зловещим. Знающие его люди, каждый в меру своего воображения с годами добавляли новые кубики к разноцветным петлицам его предполагаемого воротничка, а позже — новые звездочки к предполагаемым его погонам. И невидимый для всех чин Жоры все повышался.
Мы с Жорой виделись редко. При встречах он, случалось, останавливался поговорить и снисходительно задавал какие-то несущественные для нас обоих вопросы о нашей школе, о футболе, театре и прочих пустяках, но глаза его и уши, все равно, были в другом месте. Я отвечал из вежливости, он не слушал и перебивал, задавал второй вопрос и опять не выслушивал ответа и вдруг, ни слова не сказав, поворачивался и уходил или же говорил мне: «Иди!». На другого я, может, и обиделся бы, на Жору — нет. Не знаю — отчего. Может, тут играла роль небольшая разница в возрасте. По крайней мере, для меня. Но чаще всего Жора не замечал меня. И я знал, что в таких случаях я не имею права здороваться первым. Право здороваться давал он, Жора. И я ему прощал. Так повелось со школьных лет.
Однажды, в 1949 году, когда армян высылали со всего Закавказья, когда возле райкомов стояли наготове разукрашенные грузовики, когда на вокзале скопились товарные поезда, а в городе застыла людская тревога, я увидел Жору с вратарем армянином известной в стране футбольной команды. Я хотел незаметно пройти мимо них, но Жора окликнул меня. Я подошел. «Как дома, как дела?.. По школе не скучаешь?.. Здание не снесли? Еще стоит на месте?» — тянул он с расспросами, чтобы перебить вратаря, не дать ему говорить. Знаменитый вратарь умолял: «Жора джан, мама, две сестры, четыре брата… все уже на вокзале, в товарных вагонах… Помоги… Говорят, что ты можешь… Меня ведь вся страна знает… Ребята сказали: «Если ты знаком с Жорой Лачиновым, может, спасетесь, — и жалко, униженно улыбался. — А то как же, мы ведь вместе росли, в одном дворе…» Он не вспоминал об этом, а спрашивал. Спрашивал жалобно, с искаженным лицом. А Жора задавал мне ничего не значащие вопросы и, еще более униженный и уничтоженный вратарь, ни на что больше не надеясь, сам себе ответил вместо Жоры, выудил с лица Жоры воображаемое утешение, выдуманное им самим обещание, сам себя успокоил, сам себя убедил, что все это прочел на лице Жоры, и, пятясь назад, удалился. Как только он ушел, Жора сказал мне: «Иди». И я ушел. С легкой обидой — «Что у меня с ним общего? Почему останавливает, а потом бесцеремонно отсылает?». Хоть я и лишний раз убедился, как могуществен Жора, как многое от него зависит, если даже знаменитый вратарь — мой и когда-то и Жорин кумир — так зависит от него. И сделав эту мысль утешением для себя, я простил Жоре его бесцеремонность. А бедного знаменитого вратаря со всеми домочадцами товарный вагон умчал на поселение в северную мглу…
Жора стоял на ногах твердо и занимаемая им площадь принадлежала ему. Жора двигался, и его энергия скульптурно застывала в пройденном им расстоянии. Неслышные и крепкие ноги его кошачьими лапами приклеивались к земле и с легкостью отрывались от нее. Его ладное поджарое тело занимало мало места в пространстве, но биение его пульса чувствовалось в самых разных уголках города.
Встречая его, я старался пройти незамеченным — увидев его впереди, я норовил отойти назад встретив сбоку, замедлял шаг. Лицо его выражало согласие с моим поведением, и я даже чувствовал, что для него приемлема только такая форма общения. Меня тоже это устраивало — минимальными усилиями я избавлялся от сложной и утомительной психологической работы, где действовали мой комплекс неполноценности и страх извратить и замарать в политических хитросплетениях бедную мою гордость и кажущуюся независимость… Где действовал и обыкновенный страх тоже.
Прямо у ворот я встретился с Жорой лицом к лицу, и он сразу же взял меня за руку.
— Что поделываешь? — спросил он, глядя, как всегда, в сторону.
Я уже собирался было ответить, но увидел, что Жора ни слушать не хочет, ни задавать свои обычные вопросы. Жоре хотелось поговорить. Удивительная, небывалая вещь!
— Пошли, немного пройдемся.
Пройтись с Жорой… Я никогда еще не шагал рядом с ним.
Жора был чем-то обеспокоен, а немного погодя я почувствовал, что даже встревожен. Движения у него были какие-то ломаные, он то и дело взглядывал куда-то вверх и назад, смотрел и не хотел видеть, шагал как-то бесцельно и никуда конкретно не направлялся.
— Берию сняли… — неожиданно сказал он и снова какими-то ломаными движениями повернул голову назад, посмотрел вперед. — Арестовали.
Даже молчание во мне замерло. В портретной галерее Политбюро Берия был на месте.
Жора словно угадал мою мысль.
— Никто еще не знает… Завтра узнают.
И он как-то отрешенно заговорил о школе, о футболе, театре, но ни он себя не слушал, ни теперь уже и я.
На улице царила сама по себе существующая печаль — ничего общего не имела она ни с Жорой, ни со мной, ни с Берией.
На улице время устало, бессильное вобрать в память портретную группу, слова Жоры, падение Берии… А Жора демонстрировал необычное и деланное облегчение, которое как бы тщилось поднять нечто очень тяжелое.
С другого тротуара к нам приближался чемпион города по теннису — высокий, стройный, быстрый в движениях. Лицо его выражало тревогу.
— Здравствуй…— поспешил он поздороваться с Жорой, посмотрел на меня и, пройдя слева от Жоры, прошептал:
— Это правда?..
Жора кивнул.
— А как же теперь мы?.. — пробормотал теннисист.
Жора лишь улыбнулся под нос, и улыбка была оттуда, от его притворного облегчения.
— Это точно? — вновь встревожился теннисист.
— Точно, — сказал Жора.
— Что же мы будем делать? — вновь забеспокоился чемпион. — Что же теперь с нами будет?
И, замедлив шаг, отстал, растаял где-то там, в студени изношенного времени, и легкая дымка между нами стала гуще.
— Мой сотрудник, — небрежно обронил Жора, наградив меня самой большой и важной тайной моего времени. Удивленный, я оглянулся, посмотрел назад, потом на Жорин профиль — мне показалось, что его признание было адресовано не мне.
— Посмотри туда, — немного погодя, сказал Жора, кивнув на булочную, откуда выходила весьма почтенная личность. — Сотрудничает со мной.
Я искал глазами его сотрудника и не находил, потому что пожилой человек с хлебом в руках был известным поэтом, который иногда выступал в школах с чтением своих стихов.
Заметив издали Жору, он в знак уважительного приветствия слегка наклонил крупную породистую голову, не нанося ущерба своему чувству собственного достоинства.
Жора больше не обращал на него внимания, а я, сам себя не чуя, видел, как поэт, перейдя улицу, еще раз улыбнулся в сторону Жоры и исчез в своем переулке.
— Узнаешь? — спросил Жора и, не видя моей реакции, стал небрежно насвистывать, словно в мире ничего не произошло. — Про него… про Берию ни строчки не написал… Чтоб не заподозрили. Труслив, хитер и гибок. — И помолчав, добавил: — К тому же и с претензиями… Хочет остаться в веках…
Слова Жоры клином вонзились во время и рассекли его пополам. На одной стороне осталось слово «сотрудник», а на другой его синонимы — «сексот», доносчик, предатель…
Откровенность Жоры пугала меня. Так неожиданно, так неуместно… так некстати… Хотя я человек легковерный, но фальшиво-приличная законопослушность — эта тяжелая жизненная ноша была главной формой моего поведения, а страх однозначен. И я внутренне съежился: «А вдруг он испытывает меня? Но зачем? На что я ему? Станет он тратить на меня время… Кто я такой? Умею только выслушивать его. Но не могу же я бросить его и убежать… Хотя почему бы и нет? А потом скажет: «Почему ты не перебил меня? Почему не отвернулся и не ушел?» Но как мне сказать: «Я ухожу, Жора»? Конечно, надо, но я не могу. Обычно ведь это он говорит «Иди».
В паутину моих колебаний попал прыщавый тип — едва видимый на расстоянии, он почему-то отделился от общего фона и стал крупнее… Прыщавое лицо приближалось к нам на тщедушном узкоплечем теле. Слащавое выражение этого лица предназначалось для Жоры. Так и приблизился он к нам, ожидая взгляда Жоры (Жора смотрел в другую сторону), но, не удостоившись его, свою льстивую любезность обратил ко мне и на всякий случай поклонился Жоре.
— Думает, я его не видел, — сказал Жора. — Из кожи лез, чтобы работать в органах… Слизняк…
Такая чрезмерная откровенность Жоры, с одной стороны, снимала мой страх, с другой — приводила в замешательство.
«Почему теперь? И почему мне?» — думал я. Потом я очутился на другой волне настроения, как бы прикрываясь легкой завесой самозащиты. «Перед кем же ему раскрываться, как не передо мной? Что я такое? Я для него никакой ценности не представляю… Меня просто нет. Для него я просто не существую. И он облегчает себе душу». И все же подлинный, скрытый смысл, самую сущность его откровенности я не понимал. Что побуждает его к этому — потеря положения, разочарование, усталость, желание оправдаться, парадоксальное чувство страха перед будущим? Некий приступ истерии из-за банкротства перспективы?
На перекрестке Жора посмотрел вправо, влево и выбрал левую улицу. Он так приноравливал свой шаг, чтоб я все время чуть-чуть отставал от него… Мне показалось, он уже забыл обо мне, и я могу еще больше отстать, исчезнуть по-английски, но его напряженно-подтянутый вид держал меня на привязи невидимыми нервными узами. И я подчинился нашей единой поступи.
Сквозь черноту отдаления стал очерчиваться облик моего приятеля Карлена, с которым мы частенько коротали время у нас на балконе, на улицах, возле кинотеатров, болтали просто так, глазели на женские ножки… Я свободно вздохнул — вот остановлюсь и останусь с Карленом, и избавлюсь наконец от навязанной Жорой давящей атмосферы. Вновь войду в свою привычную оболочку и проживу, как прежде, отпущенное мне время…
Но, приближаясь к нам, Карлен в то же время отклонялся от нас и почему-то избегал смотреть в мою сторону. Я хотел окликнуть его, но как-то не получалось. Он так явно не хотел замечать меня, что необычность происходящего затормозила во мне рычаги действия.
— Твой приятель? — спросил Жора. Вопрос застал меня врасплох. Как он заметил его, если даже не смотрел в ту сторону?
— Он не с тобой, а со мной не хотел здороваться при тебе… Понял?
Как не понять.
— Из моей мелкотни. Работает под псевдонимом «Коршун», хоть ему больше подошло бы «Крыса»… — сказал Жора, глядя куда-то в сторону.
Я уже просто плелся за Жорой, то удручаясь, то ободряя себя тем, что вот сейчас раскрывается для меня и упрощается все, и опошляется, лишается смысла мой страх со всеми его оттенками и подробностями, прикрытый дымкой серьезных идей.
Легко быть Жоре искренним, его откровенность была выявлением его силы, его человеческой разновидности. И обнажался не борец, не служитель идеи, а просто выразитель устройства бытия, выше каких бы то ни было систем — какой марксизм, сталинизм, какой Берия!.. Просто Жора, независимый от всех них, скорее это они служат Жоре… Так, по крайней мере, истолковывал его откровенность мой неожиданно взбудораженный мозг…
Сквозь дырку в прозрачном занавесе застекленного гостиничного ресторана вначале стрельнул в нашу сторону взгляд хорошенькой официантки, затем встревоженный прищур пожилого официанта, а когда Жора краешком глаза покосился на них, добавились еще двое. Огненно-рыжая пожилая женщина с зубами, словно приставленными снаружи, и перезрелая девица с иссиня-черными курчавыми волосами. Огненно-рыжая сделала было попытку выйти (по всему было видно, что она хочет подойти к Жоре), но что-то в походке Жоры заставило ее остаться за занавесом.
— Эти тоже?..— уже осмелел я
Жора лишь молча посмотрел на меня, и это было его ответом. Потом добавил:
— Ты в этом ресторане когда-нибудь обедал?
— Один раз.
— Молодец! — по-дружески поиздевался Жора — А безрукого официанта видел?
— То есть как — безрукого? — может, он еще и смеется надо мной?
— Есть такой… у него протез…
И я стал припоминать нечто такое.
— Он капитан, — сказал Жора.
Я заново входил в свою знакомую, родную среду, в свой город, который ничего нового не преподносил мне (все это я носил в себе под неким невидимым запретом) и город представал как бы с иным лицом…
Я шел с Жорой по своему городу, где я провел заметную часть жизни, который был для меня все равно что объятиями мира, предназначенный мне свыше.
Жора сдавал свою армию. Жора предавал свою армию… Он выбирал кого-нибудь из прохожих, называл его по имени, личность вначале удивлялась, вопросительно глядя на Жору, затем с сомнением на меня и озабоченно и нерешительно направлялась к нам.
Жора уже не говорил «мой сотрудник» — это было ясно и так. Он лишь давал меткие характеристики их человеческим качествам, и мне казалось, они точно укладывались в установленную им образную модель.
За этот час к Жоре подошли самые разные люди — молодой врач, какой-то тип с воровскими манерами, вылезший из легковика плечистый крепкий субъект с сытым выражением лица… Неожиданная эта встреча была полна для них неопределенности, — им хотелось поговорить с Жорой, но он едва разжимал губы и, не успев даже осознать ситуацию и свою роль в ней, они только успевали выжидающе смотреть ему вслед.
Стройный юноша, в темном углу парка целовавшийся с миловидной девушкой, увидев Жору, вполглаза покосился на него, не решив для себя, узнать его или нет. Поймав Жорин взгляд, он готов был уже угодливо вскочить с места, но Жорина поступь дала ему указание о его действиях, и он остался сидеть рядом с девушкой.
— Хороший работник, — сказал Жора, не глядя в его сторону, слоено говорил о ком-то другом. — С женским полом работает…
Он повел меня в биллиардную гостиницы, там тоже был у него свой человек… Прошли мимо театра, спектакль уже кончился и среди валившей из театрального подъезда толпы тоже были «знакомые» Жоры… Кое-кого из них я знал по городу, по моему городу, единственному прибежищу моего существования, моей защите от ночной темноты, от ножа, от лжи, от чужих… И теперь я переводил взгляд с этих людей на Жорино лицо и старался угадать, кто же из них его сотрудник. И не угадывал. И не должен был угадать. И это самый великий закон особой типологической системы, — в противовес и в нарушение образно-упорядоченной классификации в искусстве. Сам Жора был где-то свойский, где-то политик, а его «знакомые» самые разные — профессор, врач, интеллектуал, левый делец или правый аппаратчик. Жора бросал на них взгляд и ничего больше. А я по его взгляду пытался понять меру его власти. По моим представлениям связь между ними и Жорой была абсурдна. И в моем чувственном воображении число этих людей все умножалось… Весь город, все закоулки были его огромной армией. Своей обычной внешностью, непритязательным своим бытом Жора не соответствовал своей реальной власти. И теперь угроза потери всего этого вызвала в нем взрыв искренности.
Было уже поздно. Двери везде закрывались, во тьму погружались тусклые уличные фонари. Жора устал, и я ждал, что он скажет: «Иди». Но он устал и от самого себя. Он сознавал, что в этот вечер не похож на себя. Воля его размякла, потеряла конкретность и силу мгновения… И он никак не мог завершить свою историческую миссию, все кружился на месте, недовольный собой и немного протрезвевший.
В редких запоздалых прохожих я продолжал искать жориных «знакомых»… Из служебного выхода центрального почтамта зыходили телеграфистки, на ходу разглаживая мятые от круглосуточного сидения юбки и осторожно озираясь по сторонам. Жора заметил одну из них. Эту женщину заметил и я. Я проверил направление взгляда Жоры — на ту ли он смотрит, что и я? Наши взгляды словно слились. На миг позвоночник мой показался водосточной трубой, я чувствовал, как по нему стекает мозговая жидкость и голова моя пустеет. Мы смотрели на один и тот же объект. Это была Сусан, моя Сусан, единственная близкая мне женщина в этом городе, с которой мое «я» делилось пополам, разгружалось от забот и фальши, от которой я выслушивал слова утешения, чтобы кое-как приспособить мое существование к времени…
Сусан дошла до перекрестка и, так и не заметив нас, направилась вверх по улице.
Мы шли следом за ней.
Я глядел на Жору. Наверное, впервые за весь вечер Жора посмотрел мне в лицо. «И она тоже?..» — прочел он в глубине моего взгляда. Жора улыбнулся, и мне показалось, что он все понял. Он проглотил свою двусмысленную улыбку, скомкал ее и, придав ей лишь одно значение, участливо спросил:
— Устал?..
Я по-прежнему преследовал его своим взглядом: «Она тоже? Сусан тоже?»… Хотя не сомневался — она тоже.
— Иди, — сказал Жора. Я молча повернулся и пошел в противоположную от Сусан сторону, чтобы ничем не выдать себя, хотя, конечно же, Жора прекрасно был осведомлен о наших отношениях. Я был грустен, но грусть эта не имела во мне прежнего веса. И я подумал, что если и позже грусть моя не обретет истинного своего веса, значит — все на свете безделица и пустяки, и весь мир — несуразное пускание пузырей, а бытие — прихоть Случайности…
Перевод И.Карумян