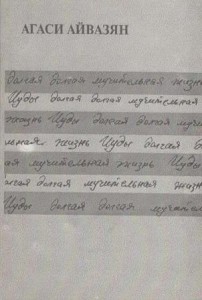ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Продолжаем публикацию книги Агаси Айвазяна «Долгая, долгая, мучительная жизнь Иуды». Благодарим Грету Вердиян за предоставленную возможность публикации.
- Ага-Хан
- Простой человек
- Белый рай
- Заристы
- Шестой палец
- Небородная
- Протяжённость слова
- Низведение
- Рассказ, написанный на парижской салфетке
- Идея
- Вечер пожилых волков
- Будущее позади
- Испанский язык
- Пожилой боксёр
- Месяц туты
- Амкарство часовщиков
СТЕРЕОТИП
Достопамятное событие произошло в 1916 году в Тифлисе на улице Лесопилка. Известный вор Вурк, долго державший в страхе город, угодил наконец в западню. Его преследовали давно, но он исчезал прямо из-под носа полиции. Но однажды его засекли на Арсенальной и больше не упустили из виду. Была поднята на ноги вся полиция, и началась охота. Один момент показалось, что он выскользнул из западни, полиция уже потеряла надежду, но где-то неподалеку вновь обнаружила его след. Не мог он далеко убежать. И так, преследуемый по пятам, удирая, Вурк бросился под конец в подвал трехэтажного дома, который был то кладовой пекаря, то виноторговца. Подвал имел только одно маленькое оконце, в которое и стрелял Вурк. Запертую изнутри на два засова дверь невозможно было сдвинуть с места. Чтобы выманить Вурка из подвала, пришлось бы пожертвовать жизнью по меньшей мере пяти человек. Вызвали старого, опытного специалиста уголовного розыска Демурова, чтобы он убедил Вурка выйти и сдаться.
— Это я, Вурк, — сказал в оконце Демуров. — Мы с тобой тертые калачи, Бурк. Все на этом свете знаем. Давай не играть в кошки-мышки. Смысла не имеет. Ты же серьезный человек… Кажется, даже философию изучал в Харьковском университете. Мы ведь понимаем друг друга… Что скажешь?
Вурк долго молчал, потом сказал:
— Проиграл я.
— А я что говорю?
— Не сейчас… давно, с начала же. Я — проигравшая сторона. Но несколько человек все же унесу с собой. Ты ведь знаешь…
— Да, знаю — несколько человек унесешь с собой. Но есть ли в этом смысл?
— Смысла нет…— глухо отозвался Вурк. — Потому я решил выйти.
— Молодец, Вурк…
— Но с одним условием, Демуров.
— Условие?..
— Не волнуйся… Твоему уголовному законодательству не повредит. Условие человеческое. Уж ты-то должен понять меня, Демуров!
— Говори.
— Хочу, чтоб ты привел сюда писателя.
— Кого?..— не поверил ушам Демуров.
— Писателя. Что тут непонятного, ну, беллетриста! Я должен рассказать ему свою жизнь.
Демуров тяжело вздохнул.
— Для чего? — со скукой спросил он.
Вурку не хотелось объяснять, но он по-дружески мягко произнес:
— Знаешь, Демуров… У человека только одна жизнь.
— Знаю. Пустая штука.
— Но моя необычна.
— Ты думаешь?
— А ты не знаешь?
— Я знаю другое.
— Послушай, Демуров… — Вурк выстрелил в окошко, и кусок кирпича, отскочив, поцарапал Демурову висок. Выстрел призывал Демурова серьезнее отнестись к его словам. В ответ Демуров усмехнулся:
— Еще что скажешь?
— Зови, говорю, Демуров, писателя! Разве это трудно?
— Кого хочешь? — Демуров почесал бородку буланже. — Может, Раффи? — «Дневник крестокрада». А еще лучше Достоевского, а? «Преступление и наказание»…
— Смеешься?
— А может, Бекарию?
— Что за Бекария?
— Вот видишь, не знаешь. Он тоже написал «Преступление и наказание», но не роман…
— Он что, судья?
— Юрист. Тебе интересно?
— Я люблю узнавать людские жизни.
— И приканчивать эти жизни…
— Издеваешься?
— Нет, зачем?
— Тебе легко смеяться. Утром пойдешь домой, выпьешь чаю.
— Да, пойду домой и выпью чаю.
— Ну хоть учителишку какого-нибудь приведи… — после некоторого молчания продолжал Вурк. — В Ходживанке есть одна редакция, редактор живет в том же доме.
— Ладно, скажем, привел. На что он тебе?
— Нужно… Проигранная жизнь. С удивительными событиями, такими необычными, что никому и в голову не придет. Неповторимая жизнь.
— Неповторимая?
— Да, Демуров, неповторимая.
— Послушай, Вурк, не усложняй. Обычная жизнь — воровство, ненависть, сентиментальная любовь (если она была), убийства, а в конце — западня. Сам знаешь. Повторялась сто, если не тысячу раз. Игра. С четким концом.
— Но ты не знаешь моей жизни. Она совсем иная. У моих поступков другие причины, понимаешь? Тебя самого заинтересуют.
— Не думаю. — (После некоторого молчания). — Мы попросту теряем время. Ты же не гимназист, Вурк.
— Приведи, Демуров, писателя, ну что тебе стоит? Увидишь после, что не зря. Я с жизнью расстаюсь, ты это можешь понять? И хочу оставить свой след хоть на нескольких страницах… Моя жизнь, пусть даже такая, принадлежит всем. Она не должна бесследно исчезнуть… Моя жизнь — это откровение в своих противоречиях. И неповторимая к тому же. Даже ты второй такой не знаешь.
— Второй? Не второй, а третьей, четвертой, сотой… бесконечной… Твоя жизнь — стереотип. Все повторяется. И все уже было, Вурк. Зря не выводи меня из себя.
— Демуров, хочешь знать, к какому выводу я пришел?
— Могу себе представить…
— Мой вывод не может быть стереотипом… Так думаю только я один.
— Это из тех мыслей, что ты хотел запечатлеть на бумаге?
— Да, из тех… Не смейся, Демуров.
— Скажи, и я постараюсь запомнить.
— Таких, как я, нужно беречь.
— Почему?
— О вас забочусь.
— О нас? Любопытно… Каким же это образом?
— В этом мире должно быть все… Закон природы. Вы и сами этого толком не понимаете. Но в этом есть великий смысл. Психологическая гармония. Уничтожьте воров, убийц и проституток… и однажды вы увидите, что уничтожен человек. Единый облик человечества составлен из их сочетания. — Вурк, казалось, постепенно воодушевлялся, но вдруг, словно что-то вспомнив, сник. — Мы беззащитны. Всякие слюнтяи, сморчки общества защищены. А ведь они не могут того, что можем мы. На нас возложена труднейшая обязанность жизни.
Вурк замолчал, он ждал ответа. Он не мог видеть, что на губах Демурова играет пренебрежительная ухмылка.
— Это тоже стереотип? — не выдержал молчания Вурк.
— Мне не хотелось лишний раз произносить это слово.
— Значит — стереотип?
— Да… Только не все выражают его так четко. Это стереотип инстинкта. Иначе все преступники кончали бы самоубийством. Это внутреннее ощущение, ощущение своего превосходства над другими. Ты обычный преступник, Вурк. И сам лишний раз сейчас подтвердил это. Самый обыкновенный…
— Стереотип…
— Да.
— Ты тоже стереотип?
— И я. Я тоже повторяюсь. Все мы повторяемся. И поверь мне, если б ты осознал это с самого начала, ты не совершил бы столько преступлений. И сейчас не нуждался бы в писателе… Ты без конца повторяешься.
— И все же расскажу — послушай хоть ты.
— Начнешь с того, что настоящее твое имя не Вурк.
— Это всякому ясно. Я другое расскажу, чего ты никогда больше не услышишь.
— Что твоя мать не была родной твоей матерью?
— Ошибаешься.
— Или что-нибудь в этом роде. Четырнадцать лет назад был некий Вурк, настоящее имя которого Вараз, дядя которого сожительствовал с женой своего брата, и от этой связи родился Вурк.
— Что ты сказал?
— Уж не похожа ли твоя история на эту?
— А дальше?
— Потом Вурк убил дядю, то есть своего родного отца… и все пошло по проторенному пути. Убийство за убийством. Его поймали в Париже и гильотинировали.
— У нас нет гильотины…
— Какая разница…
Демуров зажег сигарету и закурил. Дым проник в оконце, придав мглисто-заплесневелому окружению подвала некий уют. Вурку припомнилось детство. Он часто бывал в этом подвале, тогда здесь еще стояли бочки с вином, а верхний этаж служил кладовой пекарни. Вурк огляделся — кирпичные стены источали влагу, вокруг валялись ржавые обручи винных бочек… И еще в стене была дыра, заткнутая мусором. И смешались друг с другом запахи воображаемые и реальные — запах муки и демуровых сигарет, запах сегодняшнего страха и отчаяния, вонь от сточных вод и запахи детства, и вместе они создавали некую удушающую смесь тоски, безысходности и одиночества. Перед глазами встало видение его первой зимы, первая капля крови, которая упала из порезанного пальца на чистый снег. И следы туфель маленькой Нины на снегу. Но о чем можно было рассказать? О том, что были следы ног на снегу и что этот снег был первым в его жизни?.. Нет, неповторимое было внутри него, а оно не видно… Стереотип то, что видно извне… Его нутро принадлежит только ему… И неповторимо среди миллионов людей. И оно только его, единственное в своем роде. То, что всегда боролось с собственным преступлением. Он всегда совершал преступления и мысленно боролся, мешал, воздвигал на его пути препятствия, тормозил его ход. И его первый поступок, первое преступление… Оно только его. Внешне, может, это и стереотип, но внутренне принадлежало только ему…
И Вурк выстрелил в окно.
— Врешь, Демуров, мое преступление принадлежит мне. Это только внешне оно твое, и понятно тебе. А оно такое же самобытное и одинокое, как я, такое же невинное, родное и справедливое, как я…
— Все преступления сами по себе и справедливы, и одиноки, и невинны, и все прочее… о чем ты сейчас сказал. И если хочешь знать, в действительности преступления, как такового, нет, оно определяется и квалифицируется со стороны, извне… Оно обобщено для других, для общества.
— Вот видишь? Значит, я тоже кое-что смыслю. Ты сам признаешься, что только взгляд со стороны делает единственное стереотипом.
— Все равно… Все на свете стереотип… Твоя самобытность тоже стереотип.
— Ты никогда не поймешь, что такое жизнь, — сказал Вурк. — Ты полицейский… Ты не свободный человек.
— Ты спускался по Гончарной? — не обратив внимания на его слова, спокойно спросил Демуров.
— Ну, положим…
— Когда спускался по улице, тебе не захотелось вбежать во двор к Бего? Скажешь, не так?
— Положим, так…
— Потом ты подумап, что у Бего может быть ловушка, и ты свернул влево. Хотел было зайти во двор Св. Карапета, но почему-то не зашел. Хотя церковный двор был удобнее, чем этот подвал. Ты опять вышел на улицу и, движимый непреодолимым желанием, спустился в коридор подвала этого дома. Сам не понимая почему… Оттуда пробрался во второй двор, потом через сад — в следующий, там ты уже подумывал подняться по лестнице на второй этаж,— оттуда ведь было несколько выходов на улицу — но та же непонятная сила бросила тебя в эту яму. Что, не так?
Вурк молчал.
— Именно так, — вместо него ответил самому себе Демуров. — Теперь ответь — была ли самобытность в этом твоем движении к гибели, которое я так подробно сейчас обрисовал? Так вот знай — в прошлом году в марте тем же путем угодил в твой подвал Чопка из Ростова. Ты его знаешь…
Горечь и тоска сжали Вурку горло. Подвал словно отступил во времена его детства, стал меньше, наивнее, нарушил сложившееся представление о его размерах. Между кирпичами, в каждой щели находились его детские желания, мечты о далеком и долгом будущем. Вурк вспомнил обнаруженное им тогда отверстие, которое в детстве казалось ему загадочной беспредельностью, выходом к тайнам мира… Вурк стал машинально ползти к углу подвала. Нащупал рукой, поскреб, и под разбитым бочонком пальцы увязли в куче мусора. Он торопливо, как пес, стал подгребать под себя мусор и увидел кирпичный лаз. Вурк просунул в него голову и пополз. Внизу было мокро, вверху — тесно, в темноте он ударялся о что-то головой, лоб горел, глаза и рот наполнились кровью и сточной водой. Наконец показался просвет. То был лаз его детства, открытый им, его руками расширенный. Этот проход принадлежал только ему, был его судьбой, и уж об этом-то знал только он. Это даже для взгляда извне не стереотип, господин Демуров. Это вкус детства, смешанный с вкусом крови взрослого человека, вкус сточной воды, смешанный со страхом…
Кирпичная стена перед ним была щербатой, из щелей бил свежий воздух. Вурк толкнул рукой, и кладка распалась. Он очутился в большом канализационном туннеле, который вел к реке. Это было уже далеко от подвала и не имело ничего общего с домом.
Вурк подошел к отверстию туннеля. Ниже, в двух метрах, текла река. По-весеннему многоводная мутная Кура несла с собой толстые коряги, пни, горный воздух и свободу… Ударяясь о стены и подминая под собой берега, река касалась и детства Вурка и освежала начало его жизни, где были мать, сестры и столь выстраданные им открытия.
— Я здесь, Вурк! — сверху, словно с неба послышался голос Демурова.
Вурк не успел даже подумать, но внутри возникло какое-то отвращение, какое-то маленькое карликовое существо, отдельное, самостоятельное, вызывающее физическую неприязнь. И смысл его был: «С самого же начала был стереотип… и детство тоже стереотип… и его связь с сегодняшним днем тоже стереотип».
Вурк выстрелил в сторону Демурова, но почувствовал, что голова его почему-то опускается в сторону реки, и последним ощущением его жизни был звук падения его тела в воду…
Перевод И.Карумян