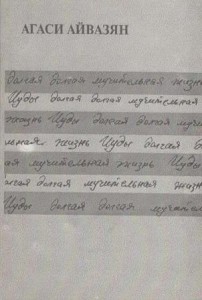ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Продолжаем публикацию книги Агаси Айвазяна «Долгая, долгая, мучительная жизнь Иуды». Благодарим Грету Вердиян за предоставленную возможность публикации.
ПРОТЯЖЁННОСТЬ СЛОВА
Не успел поезд тронуться, как с нижнего места поднялся наверх потрепанный мужчина лет за сорок и с трудом устроился рядом с такой же немолодой женщиной. Остальные два пассажира отвернулись к стенке и притворились спящими. Время было позднее… Молодая женщина с нижнего места больше не смогла уснуть — любовный пыл еле уместившейся на узкой скрипучей полке пожилой пары и особенно неуемный восторг мужчины, подавляющий и одновременно возбуждающий, создал в купе неловкую и знойную атмосферу.
Пассажир с верхней противоположной полки, мясистый, спокойный мужчина, перед тем как отвернуться к стенке, хмыкнул, посмеиваясь про себя над странностями этого мира и подмял под головой собственное ухо.
Перешагнувший через молодость и стыд мужчина полностью вручил свое «я» немолодой женщине. Он целовал ей рот и нос, лоб и подбородок, глаза и уши… И что самое удивительное — все говорил и говорил. Его речь была длинной и не кончилась до самого рассвета. Говорил он между вдохом и выдохом, во время поцелуев… Слова лились из каждой части его тела — из сердца и легких, из нервов и капилляров. То была горячечная, безудержная жажда откровенности, голос самой материи, желание придать своей страсти разумность… Он говорил о своей любви к увядающей коже женщины, к ее неповторимой бледности… В этом старообразном человеке любовь зародилась давно, долгое время созревала и выливалась в этот неподходящий час, в этом удушливом купе, на этой узкой лежанке… Его слова были правдивы, если только могут быть правдивы слова, и были как нельзя более равнозначны его состоянию, вытекали из самых заветных, первозданных глубин его клеток. Говорило все его тело, а его самого будто не было, будто физический его облик обратился в словесный, и сейчас только слово свидетельствовало о его существовании. Речь его всецело захватила притворившуюся спящей соседку по купе — женщину, которая мечтала быть любимой и не стала ею, которая всю жизнь жаждала услышать любовные слова, и не услышала их. И теперь уткнулась лицом во влажную сероватую железнодорожную подушку — чтобы не нарушить случайно миг такого великого признания. И оно было для нее исступленной радостью на грани рыданий — всей жизнью своей она не могла поверить в это, но сейчас женское ее существо трепетало и ликовало. Слово мужчины не слабело, не отделялось от его состояния, в купе ничего другого не могло уже существовать — стук колес, пыхтенье паровоза и даже громкий храп спящего на собственном ухе попутчика отступили перед этой речью, сделав ее средоточием всего. Слово…
Затхлый воздух купе сжимался и разжимался, как резина, некуда ему было вырваться, нужна была лишь малюсенькая искра, чтобы взорвать все, выбросить в окно потолок и стены… Слетавшие с потрескавшихся губ Старообразного слова, без запятых и без точек, были опасностью этой искры. Купе вспотело сквозь щели в закрытых окнах, давало пузырьки, а поезд мчался сквозь каменные громады Армении…
Старообразный продолжал препарировать свое чувство, придавая значение каждому своему поцелую, вкладывая смысл в каждое прикосновение своих костлявых членов. Пожилая женщина дала волю своим морщинам, складки на ее увядшем теле повисли — то ли от чувственного легкомыслия, то ли от ночной дремы. А Старообразный до самого дна выскребывал правду своей любви и как истинный армянин тщетно пытался сообщить своему чувству оттенок бессмертия, чтобы любовь его вдруг не исчезла, не пропала в этой бессмысленной суете…
Так рассвело. Речь Старообразного кончилась с прибытием на конечную станцию. Пассажиры сошли с поезда. Старообразный вел рядом с собой Немолодую, точно она была другим выражением его «я», начиненным подлинной любовью и истиной.
На станции утренняя сутолока словно была остатком вчерашнего дня и ничего общего не имела с окружающим шумом, а голоса и предметы вокруг жили отдельно и независимо друг от друга. Шаги возникали сами по себе, и звук от шагов тоже был сам по себе. Двери открывались-закрывались беззвучно, хлопанье их словно шло откуда-то из другого места и времени… Били вокзальные часы, и осколки звуков в различных чемоданах отбывали в разных направлениях.
Сонная и равнодушная Немолодая женщина слюнявым концом носового платка счищала на ходу заспанные глаза. На минуту стала, подтянула чулок на жилистую ляжку и поглядела на своего попутчика. Старообразный снова что-то сказал, видимо, то были застрявшие в горле крошки ночных слов.
Они вышли с вокзала. Возле выхода стали. Женщина посмотрела по сторонам, потом на Старообразного и очень просто произнесла:
— Надоел!
Старообразный не понял смысла и значения сказанного — слово было коротким и незаконнорожденным… И самостоятельным, как все окружающие звуки. Не имело оно отношения к нему и к прошедшей ночи. Оно существовало само по себе, в собственной оболочке — твердое, отмежевывающее. И он так бы и не понял, если бы не увидел, что это короткое слово стало началом действия… Потому что женщина повернулась и ушла. И тогда только он понял, что она уходит навсегда, и это было непереносимо для него. Но у мужчины больше не было слов, он исчерпал их все, и ничего нового не мог сказать, внутри у него ничего не осталось. После этого он долгие годы слово в слово повторял для себя, а также неизвестно кому истину той ночи в купе. То была его жизнь в слове. Или ставший словом его образ.
Трудно определить значение протяженности слова. Невозможно взвесить и измерить его длину. Офицер скомандовал «Пли!», и в холодном подвале погибли тридцатилетние лекции философа. А были всего лишь три буквы на кончике языка, не имевшие корней ни в голове, ни в сердце.
До слуха солдата дошло короткое «Исполнить!», и в мозгу Мейерхольда были убиты монологи Гамлета и Бержерака.
Куцый вой толпы поднял на крест нескончаемую Нагорную проповедь.
Геометрию слова понять невозможно. Четыре тысячи лет Армянин говорит. Слово его длинно. Ответ короток: «Надоел!».
Перевод И.Карумян