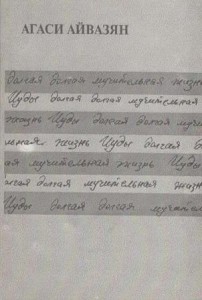ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Продолжаем публикацию книги Агаси Айвазяна «Долгая, долгая, мучительная жизнь Иуды». Благодарим Грету Вердиян за предоставленную возможность публикации.
- Ага-Хан
- Простой человек
- Белый рай
- Заристы
- Шестой палец
- Небородная
- Протяжённость слова
- Низведение
- Рассказ, написанный на парижской салфетке
- Идея
- Вечер пожилых волков
- Будущее позади
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
В 1943 году в одном из уральских госпиталей умер от ран мой брат. Отец мой работал возле сталелитейной печи с одним легким. Двоюродный брат пропал без вести в Крыму. Его мать, мою тетку, убили в Мингрелии в кукурузном поле, под стройными кукурузными стеблями. По вечерам в летнем клубе Дома красноармейцев играл духовой оркестр, и возле клуба прогуливались однорукие, одноногие и одноглазые фронтовики. В раме нашего окна влево, на запад уходили воинские части, а на восток тащились процессии беженцев. Солнца не было. А если быть реалистичнее — солнце исчезало из погоды моих воспоминаний.
— Перебирайся к нам, — сказал я испанцу Сатурниньо. Он был сыном республиканца и после поражения республиканской Испании в 1936 году приехал в Советский Союз. Работал со мной в заводском цеху и жил в холодном, мрачном общежитии, больше похожем на казарму.
— ¿ Рог que ?— Смущенно спросил он.
— Просто так, — сказал я. — Дома у нас хоть печка топится, а ты почти голый (Его одежда, как и одежда его друзей, была связана ими, вязавшими даже обувь).
— ¿Porque? — снова спросил Сатурниньо, оставляя себе время на обдумывание.
— Мы же люди…— сказал я. И тебе будет удобно, и мне, научишь меня испанскому языку.
— Удобно? — переспросил Сатурниньо. — Bueno …— согласился он.
И перебрался в наш ветхий дом. «1760» было написано на его кирпичном фронтоне. (Вернее, было обозначено барельефными буквами из того же кирпича). И никто из нас не догадывался тогда, что это дата рождения нашего дома. Только гораздо позже, когда он рухнул, я воссоздал в памяти его старый, родной облик.
Перед нами образовался густой сумрак, за оборотной стороной которого был конец войны: хлеб без карточек и ночи без пропусков. Входя головой в эту мглистую, тоскливую тьму, невыспавшиеся и голодные, усталые и продрогшие, мы каждый день ехали на рассвете в рабочем поезде на работу, а поздно вечером возвращались домой пешком, и на сон у нас не оставалось времени.
— Vamos fumar, — говорил Сатурниньо.
— Vamos…— повторял я, и мы шли покурить в пропахшей мочой сырой уборной.
— Vamos a casa …— говорил Сатурниньо.
— Vamos…— повторял я, и мы плелись домой по грустным, затемненным улицам.
Дома, на заводе и в электричке Сатурниньо читал мне стихи Лорки, чтобы научить меня испанскому. И много болтал, с каждым окружающим предметом связывая какое-нибудь испанское слово. И эти слова прилипали к мгле, объединялись с омерзительной тоской, роднились с голодом, становились в очередь, замешивались на изматывающей душу печали, отдавались блудливому страху, растворялись в поте мук, впитывали в себя скорбь потерь…
Из густой тьмы мы выбрались в связанных Сатурниньо башмаках. По другую сторону мглы войны уже не было. Сатурниньо с другими испанцами уехал в Москву, а оттуда в Испанию.
За сорок лет я постепенно забыл сотню испанских выражений и несколько тысяч слов.
В декабре 1988 года наша земля полюбила нас по-армянски безоглядно и пылко, хлопнула нас изо всех сил по плечу, сжала в своих глыбистых объятиях, раскрыла рот от села до села, чтобы крикнуть: «Ох, умереть мне за вас!». Откуда было знать моей энергичной и крепкорукой Родине, что и чувства должны быть в меру и в объятиях тоже нужен такт…
Восемь человек из нашей семьи пали жертвой ласк нашей чудесной природы. И меня вновь окутал густой слой печали, томительной скуки, горечи от потерь и отчаяния… За ними уже ничего не было видно, и удушающая тоска стала главным содержанием атмосферы…
Мой старый друг, чемпион Армении по боксу пятидесятых годов, часто приходил ко мне на развалины, чтобы как-то утешить меня. Не зная, с чего начать, он просто произносил слова, давая им жизнь, все равно они не могли иметь смысла в этих потерявших строй громоздких развалинах.
Я заметил в его руках журнал.
— Это о боксе, — неуверенно произнес мой друг с робкой надеждой ввести меня в русло иного настроения. — Статья об армянском боксе. Смотри, и моя фамилия тут есть. Кубинский спортивный журнал на испанском языке. Кроме названий и «Армения» ничего не могу понять.
Я взял в руки журнал.
— Никто из твоих знакомых не знает испанского? — обрадовавшись, что разговор получается, спросил он.
— Нет… — сказал я. — Когда-то я сам немного говорил… Но все позабыл.
— Когда-то я тоже учил в школе французский, сейчас ни слова не знаю… — Потом с деланным удивлением посмотрел на меня (радуясь, что я удачно вхожу в отвлеченную тему) — Слушай, как это получается, что никто из нас не знает языка, которому учился? Пять лет в школе, столько же в институте. Мы что, тупые были?
— Время было другое, — сказал я, и пока мой друг вытаскивал из-под развалин школьное расписание, я бросил взгляд на журнальную страницу, чтобы обнаружить хоть одно знакомое слово. И с первого же слова до последнего стал читать и переводить. Мой друг удивленно уставился на меня:
— Так бы и сказал, что знаешь язык…
— Нет, не знаю, — твердо сказал я.
— Как же ты перевел целую страницу?
— И сам не пойму, — ответил я и только сейчас удивился тому, что произошло.
— Прочти еще раз, — попросил мой друг.
Я взглянул на страницу. Стал читать в уме слова из латинских букв и ничего не понял. Даже то, что я только что перевел, было незнакомо мне.
Мой друг улыбнулся:
— Ты выдумывал, да? Так, предположительно, неверное…
— Наверное, — согласился я, но внутренне был уверен, что в первый раз я перевел полностью и точно.
Спустя два дня мой друг вновь посетил мои развалины.
— Вчера я отнес журнал в университет, попросил перевести, и знаешь, получилось точь-в-точь как у тебя. Ты ведь поленился во второй раз прочесть, да? — засмеялся он.
Я пожал плечами, но про себя был убежден, что во второй раз я не понял ни строчки. Я перевел только ОДИН раз. После, думая над этим, я пришел к выводу, я почувствовал, что во мне воссоздалось тяжелое настроение военных лет, вновь встал передо мной плотный слой зловещей тьмы и горя, потерь и безнадежности. И это повторение состояний из каких-то уголков моего подсознания, из-под настроений различных лет вытащило и восстановило выматывающую душу горечь тех лет и замешанный на этой горечи испанский язык. Ведь испанские слова я вбирал в себя через войну и трагическую участь нашей семьи, слитые с ними, в единстве с ними. И это прежнее настроение выплеснулось наружу лишь один раз. Этот фантастический единственный раз остался моей тайной — как некий сплав реального и воображаемого. Но вскоре я сам стал сомневаться в моем переводе и моей памяти. Мы часто говорим, подчас с обидой, что из-за одного слова или факта люди начинают сомневаться в твоей сущности. За что, думаешь, вы ведь знаете меня столько лет и вдруг обобщаете ничтожный факт, подвергаете сомнению всю мою жизнь. Только одной случайной ошибки достаточно, чтобы даже твой самый близкий человек изменил мнение о твоих устойчивых и присущих только тебе чертах характера. И лишь сейчас я понял, как прост и однозначен мир. Ведь я усомнился в самом себе, усомнился в этом моем одноразовом знании испанского.
Только в конце 1989 года я смог оторвать взгляд от развалин и огляделся вокруг — рассеянный по миру народ с трепещущими кромками судьбы, блокада, разграбленные поезда, опасные дороги, беженцы под открытым небом, взгляд, идущий от национальной безграничности и ищущий безграничность, и карта, похожая на изгрызенный со всех сторон лаваш, место обитания древнейшего на земле народа…
В те дни я случайно оказался в Хор-Вирапе. Археологические раскопки обнаружили там таблички с ассирийской клинописью. Знакомый археолог осторожно счищал поверхность таблички. Я глядел на вершины Арарата, на окружающие монастырь холмы и размышлял, что еще может быть сокрыто под этими земляными насыпями. И решил, что в них сокрыто время, время размером с эти холмы в этой громадной, всепоглощающей вечности. Наблюдая за этими холмами с высоты своего возраста, я почувствовал, что две-три тысячи не Бог весть что. Маленький трупик, маленький холмик… Я стоял под небом, стоял на земле, и взгляд мой скользил по поверхности таблички в руках моего знакомого. И по какому-то сокровенно-глубинному побуждению я начал читать ассирийскую клинопись. То было деловое послание вавилонского писца урартийскому торговцу. И это длилось ОДНО мгновение и произошло ОДИН раз. Я читал содержание таблички, не зная и не различая клинописных знаков, составлял и понимал текст. Это длилось лишь ОДИН миг, и я тут же позабыл прочитанное и, напряженный и отрешенный, глядел по сторонам…
Не догадывавшийся ни о чем мой знакомый археолог посмотрел на меня и подмигнул:
— Представляешь, сколько нам придется помучиться над расшифровкой этой таблички…
Перевод И.Карумян