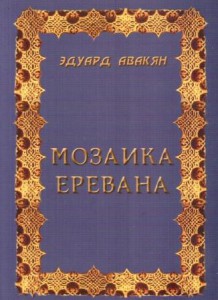СОЦИУМ
Продолжаем публикацию глав из книги Эдуарда Авакяна «Мозаика Еревана». Благодарим переводчика книги на русский язык Светлану Авакян-Добровольскую за разрешение на публикацию.
Предыдущие главы:
- Певец Еревана
- Первый — Ван, последний Ереван
- Старая крепость Еревана и дворец сардара
- Три похода или взятие Ереванской крепости
- О чем рассказывают названия старых кварталов Еревана
- О чем рассказывают улицы и дома старого Еревана
- Конд. Саят-Нова
- Мелик-Агамаляны с кондской улицы Тапабаш
- Братья Мнацаканяны
- Преданные рода Тер-Аветикянов
- Еще одно забытое имя
- Врач Арам Тер-Аветикян
- От мастерской до завода Занги
- Старейшина армянской медицины
- Есаи Джанполадян
- Торговый дом «Максанакан»
- Возвращая воспоминания прошлого
- Эриванский род Африкянов
- Акоп-ага
- Увы, как же жаль…
- Наполненный музыкой
- Один из первых
- Известный армянский педиатр
- Одиссея армянского архитектора
- Учёный и его дети
Резким движением Србуи отложила в сторону ручку. Сидела долго в тяжком оцепенении. Устала, устала от бремени прожитых лет, от ожидания. Ей восемьдесят шесть — долгих, трудных. И тридцать восемь из них — ожидание. Вздрогнула, огляделась Никого. Никого не осталось, все покинули ее, исчезли, ушли из жизни. Теперь она одна, совсем одна. Остались только фотографии. Прекрасные благородные лица на коричневом фоне старых дореволюционных снимков: отец Степан Данилович — седовласый, с маленькой бородкой и усами, мать Екатерина — даже здесь на фотографии, строгая, с властным взглядом. И брат Левон — с густой шевелюрой, красивый, черноглазый… Никого нет, все ушли. Никого не осталось. На письменном столе фотография… Сын, Ролан, ее единственное дитя… Его тоже нет. Он — тоже… Ушел из дому ровно тридцать восемь лет назад, утром… Нет, он не ушел, его забрали, увели… А когда в те годы забирали, уводили, это означало начало конца…
Она взяла в руки фотографию, долго смотрела на сына. Какое у него прекрасное, благородное лицо! Как он похож на своего отца: тонкие черты и удивительно глубокие печальные глаза. Черные и печальные, такие же, как судьба…
Србуи покачала головой, тяжело вздохнула: «Ушел и не нсрнулся, даже весточки не прислал. Ролан! Неужели ты такой жестокий, сынок? Нет, нет, жестоким оказалось время…»
Она снова взялась за перо, надо работать, завершать большой труд по истории армянского танца. Армянское танцевальное искусство… Но кому нужно искусство, кому?! Зачем отдавать ему всю себя? Во имя науки? Может быть. Но, наверное, больше для того, чтобы забыться, уйти от собственных дум… Достаточно отложить перо, как вновь приходят воспоминания, не дают покоя мысли об отце, о матери, о рано погибшем брате и о нем… о сыне, о Ролане. Нет, она думает о нем всегда, постоянно, денно и нощно, эта мучительная болезненная рана не затягивается, терзает, сокрушает… «Нет, нет, не могу, нет сил, — покачала головой. -Настал и мой черед, все валится из рук».
Сына увели. В тот год снова начались аресты, особенно среди студентов. Србуи неожиданно вспомнила близкого друга Ролана — Рафаэля Флорина, высокого стройного юношу в очках. Он был талантлив, писал и успел опубликовать в литературном альманахе рассказ «Майское утро». Как радовался Ролан успеху друга, принес «Альманах», гордился, показывал всем…
Они были неразлучны, с первого курса по четвертый сидели рядом в университетской аудитории, будущие историки, они мечтали о будущем… Товарищи шутили и, соединив первые слоги их имен, называли друзей Ролраф. Вместе сидели в студенческой аудитории, вместе сидели в тюрьме… Война только началась, но самое страшное началось раньше. Стольких тогда уволили. Удалось спастись тем немногим из их сверстников, которые ушли на фронт, а кого не призвали, тоже оказались вдали от родной Армении, осужденные на десять-пятнадцать лет.
Ролана и Рафаэля осудили на десять лет. А потом разлучили. Разлучили неразлучных. Рафаэля увезли в далекий незнакомый и чужой городок Чирчик. А Ролан оставался в Ереване. Но где? И что с ним, никто ничего не знал.
В те дни сплачивало общее горе, тревоги и заботы. Србуи разыскала мать Рафаэля Флорина и узнала от нее страшное. Узнала, что Ролан не выдержал пыток и еще до ссылки… здесь… в Ереване…
Она хорошо помнила тот день. Мать Рафаэля с болью в сердце, со слезами на глазах, проклиная себя и свой «злой» язык, произнесла те страшные слова. А она, Србуи, не выдержала, взорвалась, излила на эту бедную женщину всю горечь собственного сердца. На женщину, сына которой увели так же, как ее Ролана, осудили невиновного… Нет, тогда она просто не сумела сдержать своих чувств, кричала, что все это неправда ложь, злая шутка… Србуи не могла поверить в самое страшное, жила надеждой, верой в то, что сын жив. И отец, и мать ее тоже жили этим. Они не могли не верить, потому что однажды уже испытали боль потери, жестокой, несправедливой потери, и теперь терпеливо, втайне от всех хранили в сердцах горечь утраты.
Левон был всего на год старше Србуи, но всегда казался «наставником», таким он был серьезным юношей — образованный, прекрасный пианист. Как он любил Шопена и как замечательно играл мазурки и полонезы, но лучше и проникновеннее всего сонату «Си-бемоль минор». Как мечтал Левон посвятить себя родному народу, жил его болью. В годы учебы в Москве участвовал в студенческих выступлениях, был исключен из университета, сидел в тюрьме. А когда выпустили, отец, Степан Лисициан, отправил сына за границу, в Вену, учиться. Несколько лет Левон изучал армянскую архитектуру под руководством Иозефа Стржиговского. Революция в России призвала брата домой. И он полностью посвятил себя великому делу революции, погиб близ Эчмиадзина во время февральских волнений. Они узнали об этом в Тифлисе. Степан Данилович поседел за одну ночь. Мать была женщиной волевой. Выдержала. Только после этого часто садилась за рояль и играла сонату Шопена «Си-бемоль минор».
Да, они выдержали тогда эту потерю — отец, мать, сестры, глубоко в сердце запрятали скорбь, и все ради Ролана. Его маленькие нежные ручонки, его улыбка стали утешением, помогли ныжить.
Степан Данилович учил внука армянскому языку, бабушка Екатерина, окончившая гимназию в Тифлисе, — русскому, игре на фортепиано. После переезда в Ереван Степан Данилович стал преподавать в университете. Србуи увлеченно работала над своей любимой темой — историей армянского танцевального искусства. Как хорошо, дружно, спокойно жили они! Но в воздухе уже |носилась тревога. Смерть Агаси Ханджяна потрясла Степана Даниловича. Тревога и страх — вот что стало определяющим в жизни города, страны. Начались аресты среди профессоров университета. Откуда только взялось столько шпионов, диверсантов, предателей, врагов народа?
Однажды отец вернулся домой вконец обескураженный и растерянный.
Арестовали Грачия Ачаряна. — произнес он и заперся в кабинете.
У старика был мягкий характер, но все знали: если он запирается в кабинете, значит, его нельзя беспокоить, задавать вопросы.
И только спустя месяц он нарушил молчание и сказал:
— Удивительный человек Грачия! Его объявили шпионом нескольких государств, диверсантом, а он молчит. И только когда ему заявили, что он находится на службе у Турции, не выдержав, он ответил: «Считайте меня агентом каких угодно государств, но только не Турции…»
— Варварство! — произнесла Екатерина. — Средневековое варварство, когда один человек пожирает другого. Потеряна всякая вера!
— Главное, чтобы человечество сумело сохранить гуманность и веру.
— Знаешь, те, у кого короткий ум, всегда обращаются к насилию.
— Помолчи. Екатерина, не забывай, что нам необходимо ставить на ноги Ролана. Поживем, увидим, чем это все кончится.
— Все это кончится очень плохо, я не сомневаюсь!
— Екатерина!
Страх матери оказался не напрасным.
Србуи обхватила голову руками. Господи, что им пришлось пережить в те дни! Когда отец задерживался в университете, они ждали, объятые ужасом и дурными предчувствиями. — неужели и его забрали?
Однажды Степан Данилович рассказывал студентам на лекции о реке Аракс: откуда она берет начало, какие имеет притоки, где протекает. Объяснил, что русло Аракса в зависимости от местности то расширяется, то сужается, а близ Араздагана река разливается и так мелеет, что можно вброд перейти с одного берега на другой.
Вечером, когда он возвращался домой, к нему подошел незнакомый мужчина и велел следовать за ним. Степан Данилович оказался в том самом здании, которого все, в том числе и он, так боялись.
— Стало быть, вы утверждаете, что река Аракс в определенном месте разливается так, что мелеет и…
— Да, в дни мелководья.
— Около Араздагана, не правда ли?
— Да. И можно…
— И можно перейти с одного берега на другой вброд? Сволочь! — Мужчина ударил кулаком по столу. — Шпион… И даже не пытаешься отказываться?
— Отказываться? Но от чего, собственно говоря?
— Да от того, что учишь, как удрать за границу!
— Я географ, — отвечал профессор растерянно, — и обязан…
— Ах, ты оказывается обязан? Шпион!
— Нет, я просто не понимаю о чем ты, сынок. Не понимаю!
— Вот посидишь у нас и все поймешь!
И Степану Даниловичу пришлось посидеть в тюрьме, чтобы понять свою вину.
А когда его выпустили, он стал еще более молчаливым, замкнулся в себе, всех избегал, сторонился. Дома тоже все больше молчал, казалось, даже не интересовался тем, что происходит в городе. И домашним запрещал вести разговоры. Когда же жена Екатерина вспоминала своих тифлисских знакомых, которых уже не было, Степан Данилович бледнел и, тряся маленькой бородкой, прикладывал палец к губам и шептал: «Умоляю тебя, Екатерина, тише, и у стен есть уши».
Ролан был уже студентом четвертого курса исторического факультета. И хотя он ни о чем не рассказывал, не вмешивался в разговоры взрослых, домашние понимали, что внук и его друзья не остаются безразличными к происходящему. Ролан часто куда-то уходил, пропадал часами у Рафаэля. Србуи знала, что Рафаэль живет на Конде. Но она не догадывалась о том, что Ролан так часто ходит на Конд не только к другу. Первым узнал тайну друга Рафаэль. Сначала он просто посмеялся, потом рассердился не на шутку. Подумать только, Ролан ходит в церковь святого Ованеса…
— Ролан, — сказал он другу, — в наш жестокий век не помогут никакие молитвы… Сегодня нам нужна иная вера! Помнишь, как возмущались ребята в университете тем, как коверкают, портят армянский язык, наш древний, прекрасный язык, как искренне отстаивали они свои справедливые требования, то, во что свято верят!
— Но ведь и моя вера совсем не против этого, Рафаэль…
— Мы так много потеряли, Ролан. Ты же историк, подумай сам и вспомни, что, слава богу, сейчас у нас есть родина, этот клочок земли, есть наш родной армянский язык. В этом наша вера…
— Но ты забываешь, что после потери государственности армян всегда поддерживала, сплачивала, объединяла церковь!
— Не церковь, а духовное наше богатство сплачивало нас. А богатство наше — это наша письменность, наша литература. Они всегда были поддержкой, охраняли нас…
— Но посмотри, что творится вокруг, в эти дни беззакония и произвола! Нам сегодня так необходима вера, понимаешь, Рафо, вера!
— Ты прав, Ролан, но сейчас у тебя не должно быть никакой иной веры. Что бы ни случилось, человек должен оставаться человеком…
— Но как?
— Ролан, в эти дни, когда все хотят, чтобы его имя внушало любовь и вместе с ней веру, мы живем в страхе. Подумай о том, что творится вокруг. Косят, уничтожают нашу интеллигенцию, весь цвет нации, оставляют одни сорняки. Знаешь, где сейчас Чаренц, Бакунц?
— Но они…
— Погоди, знаю. Их так называют… Да, ты прав, нам нужна вера, вера в завтрашний день. Страх — это же убийственно, это более ужасно, чем все другие средства уничтожения. Те убивают лишь тело, а страх, он душу поражает…
— Видишь, Рафо, и ты заговорил о душе!
— Ты ищешь справедливости, но не там, где нужно. Наша справедливость, наша истина — это наша жизнь, наше будущее. Наступит день, и ты убедишься, что я прав. Сейчас для нас время ожидания, понимаешь, ожидания и надежд…
Началась война. Србуи хорошо помнила этот день. Страшный день, за которым последовали другие, более страшные… Зло, проросшее в стране, подозрительность, недоверие усиливались с каждым днем. Немецких шпионов и диверсантов становилось с каждым днем все больше и больше.
Србуи встала из-за стола, подошла к кровати. Голова кружилась, и звенело в ушах, казалось, тысяча водопадов оглушали все вокруг.
В тот день Ролан, как назло, был дома. Не ушел, как обычно в университет или в публичную библиотеку заниматься, не стал бродить с Рафаэлем по улицам города, чаше всего они гуляли по улице Абовяна… Нет, в тот день он решил побыть дома… Но даже если бы он ушел, если бы его не оказалось дома в тот час, неужто что-либо изменилось в его судьбе? Конечно же, нет…
Их было трое. Один все время что-то писал, двое других производили обыск. Все в доме перевернули вверх дном, расшвыряли книги… Хорошо, что дед успел подчистить библиотеку. Србуи так и не поняла, что они искали так упорно. Мать беспокойно ходила из угла в угол. Всегда сдержанная, уверенная в себе, строгая, сейчас она потеряла голову, волновалась, лицо и шея покрылись красными пятнами. Такой она была только в день, когда пришло известие о гибели Левона. Хорошо, что деда Степана Даниловича не было дома. Старик умер бы сразу от разрыва сердца. Единственный, кто был спокоен и, казалось, даже безразличен ко всему происходящему, — это сам Ролан. Господи, когда же это он успел стать мужчиной, таким твердым, стойким… Когда?
— Подпишите, — произнес тот, который сидел за столом и все время что-то писал.
— Подписать? Что подписывать и зачем?
— Отказываетесь? Что ж, очень хорошо. Соберите ему одежду, дайте с собой чашку и ложку.
До сих пор не может понять Србуи, почему в тот день она так покорно побежала на кухню. Как будто собирала сына в интересную поездку… Взяла серебряную ложечку — ее подарок, когда Ролану исполнилось двадцать лет. И стакан, тоже серебряный, подарок деда.
— Это ни к чему, — холодно произнес второй, — попроще, из алюминия.
— Но у нас в доме…
— А мы и видим, как вы за сыночком своим смотрели. -усмехнулся другой. — Ну и мы за ним поухаживаем, не беспокойтесь!
Но когда они уходили. Србуи не выдержала, закричала, повисла на руке у сына, казалось, только в эту минуту поняв весь ужас происходящего.
— Не отпущу, не отдам, нет, не отпущу!..
Потом неожиданно резко повернулась к сыну, посмотрела ему прямо в глаза:
— Ролан, сынок, почему так, за что, за что?
— Я ничего не совершил, мама. Я ни в чем не виновен. Я скоро вернусь домой, вот увидишь!
— Ролан! — это бабушка подошла к внуку. Так рушится, так гибнет скала…
— Не надо плакать, не надо, прошу вас, родные мои! Я верю в победу добра, что бы там ни случилось, понимаете, верю!
Когда сына увели, Србуи, обессилев, упала как подкошенная.
— Хорошо хоть Степана Даниловича не было дома, — простонала Екатерина…
— Господи, мама, неужели ты еще в состоянии видеть что-то хорошее в этом ужасе?
Степан Данилович слег. Он был стар, и горе сломило его. Открылась давняя рана — гибель сына. Два горя слились в одно.
— Отец, — сказала ему Србуи. — держись, прошу тебя, ты должен дождаться возвращения Ролана.
— Степан Данилович, — повторила вслед за дочерью жена, -держись…
Через месяц Лисициан поднялся. Он жил надеждой. И Србуи, и профессор делали все, чтобы узнать, где Ролан, однако все их хлопоты оставались безрезультатными.
Наконец пришло письмо. Письмо от него: «Мамочка, бабушка, дед… Сегодня все решилось… Я здоров. Стараюсь выдержать все, дождаться встречи с вами. Можете принести мне передачу…»
Письмо было отрывочным, немного бессвязным, убийственным. Потом им официально объяснили, в чем обвиняется Ролан: националист, член гитлерюгенда…
Дни, подобно тяжелым мельничным жерновам, перемалывали всех троих — вместе и поодиночке. Боль болью, но неопределенность еще большая боль.
Србуи знала, что Рафаэля после суда отправили в ссылку и мать получает от него письма из далекого Чирчика. А от Ролана не приходило никаких вестей.
— Я напишу Анастасу, спрошу у него, — сказал Степан Данилович, — он помнит меня по семинарии Геворкян в Тифлисе. Он был моим учеником.
Да, Анастас Микоян был учеником Степана Даниловича и при редких встречах с уважением и почтительно беседовал с ним.
И Степан Данилович написал письмо в Москву. Рассказал в нем обо всем, описал безграничное горе семьи, вспомнил прошлое, сына Левона.
Ответ не задержался. Письмо пришло для того чтобы успокоить или, может быть, усилить боль. Из Москвы ответили, что внук в ссылке, но где именно, не имеют права сообщить. И писем писать ему тоже нельзя… Утешительная ложь, обычная в те годы.
Прошел первый год из долгих тридцати восьми лет ожидания. Тогда они не знали, что предпринять, верить этому ответу или нет, продолжать жить надеждой или умереть…
Степан Данилович первым не вынес бремени прожитых лет, ударов судьбы. Он ушел из жизни с огромной болью в сердце по погибшему сыну, удвоенной неопределенностью о судьбе внука.
Мать, Екатерина, истаяла, уменьшилась, высохла от горя, угасла.
И Србуи осталась одна среди многочисленных реликвий, книг, фотографий. Книги стали утешением, работа поглощала все время. Но лица близких на фотографиях, окружавших ее, зовущие, родные, мучили постоянно. Србуи была похожа на отца, но унаследовала от матери ее стойкость и держалась. Она потеряла в жизни все, но сумела сохранить только одно — надежду. Она надеялась, ждала, верила в то, что однажды Ролан вернется.
Как давно это было, годы назад! После долгах холодных дней наступила оттепель. Она не выдержала, совесть мучила её за ту последнюю давнюю встречу с бедной женщиной.. И она пошла в Конд. Она мучилась вдвойне, и за себя, и за неё. Обнялись, расплакались, вспомнили старое. Рафаэль выдержал в ссылке только три года, заболел тяжело. Мать продала все, что могла, поехала к сыну, привезла его, чтобы он угас на родной земле.
— Лежит под холодным камнем на нашем старом кладбище Тохмах-гел, — сказала мать Рафаэля.
— Ты счастливая, — прошептала Србуи.
— Счастливая? Я? Мать, потерявшая сына?
— Тебе есть, где поплакать. А что сказать мне?
Мать Рафаэля встала, принесла клочок грубой серой бумаги.
— Смотри, — закричала она в отчаянии, — его оправдали, они оправдали невиновного…
Србуи закрыла глаза. Она видела сейчас Ролана таким, как в тот последний день: в одной руке пиджак, в другой серебряный стаканчик с ложкой… Застонала. У каждого есть свой Тохмах-гел, Ролан! У неё нет и этого…
Очнулась, вздрогнула и огляделась. Нет, нет! Могила сына в ее сердце, с ней, до последнего дыхания, пока она существует. А после… когда ее не станет, кто будет знать, что жил на свете прекрасный юноша, что любил жизнь, людей, свято верил в свой народ, мучился за него, страдал и ушел из жизни во имя святой веры?..
Србуи тяжело вздохнула. Нет, это был не обычный горестный вздох, а скорее крик скорбящей души. Она чувствовала, что жить ей остается недолго и скоро она попрощается со всем этим -с книгами, с портретами близких, с домом, с миром… Ей ничего не надо, только одно заветное желание измученного сердца, как завещание: «Когда станете делать надгробие на моей могиле, прошу вас, не забудьте о втором… И на нем одно только слово «Ролан»…
В пантеоне ереванского кладбища есть черное гранитное надгробие с надписью:
Заслуженный деятель искусств Србуи Степановна Лисициан (1893-1979ГГ.).
А слева от него притулившаяся к надгробию небольшая гранитная плита с отбитым краем. На плите одно слово «РОЛАН».
Ни года рождения, ни года смерти. Он с матерью навечно, и в рождении, и в смерти…