ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«Наша Среда online» — Как тектонические плиты, античный и новейший мир расползаются друг от друга. Античность многими веками давала закваску миру, он брал «дрожжи» для того, чтобы в новых формах возродить ее образы и мифы.
Современные войны, доламывающие тот хребет, что лег в основу европейского, американского искусства. Уже Фридрих Шиллер в своих статьях констатировал разрыв, образовавшийся между античной и новой поэзией. Несмотря на то, что первая казалась ему цельной, рождающаяся «сентиментальная» была уже против архаичной, «наивной». Он считал, что «новая поэзия богаче – опосредованное, аналитическое действие к объекту, составляющее стиль ее, содержательней, выше естественного неразложимого содружества с объектом, характерного для поэзии античной».
В манифесте «Дегуманизация искусства» Хосе Ортега-и-Гассет описывает принципы новейшего искусства. Главный из них – разрыв с человеком, гуманитарным посылом. «Человек умер – родился поэт», — заключает Ортега.
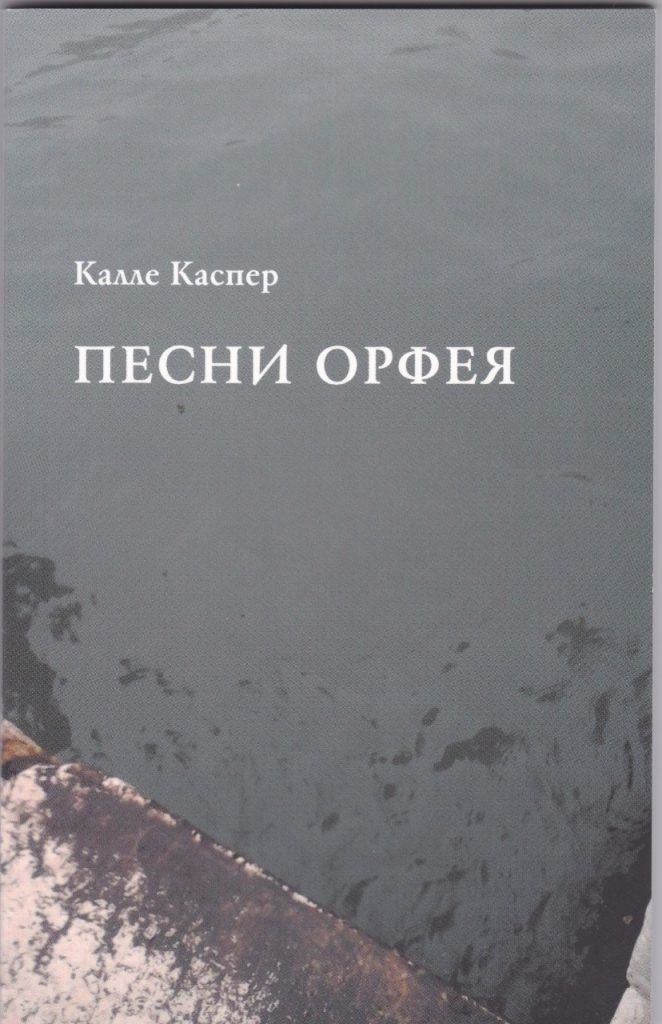
«Песни Орфея» эстонского поэта, прозаика, драматурга, автора эпопеи «Буриданы» в восьми томах, — это больше, чем попытка по камню, по цветку, по мифу перенести в будущее, через сегодняшний разлом, спасенный античный мир. Эти стихи посвящены памяти любимой жены Гоар Маркосян-Каспер, известной эстонской писательницы армянского происхождения, ушедшей из жизни в сентябре 2015 года в барселонской больнице.
Каспер уже представлял «Песни Орфея» и эстонскому, и русскому читателю. В апреле в Санкт-Петербурге в редакции литературного журнала «Звезда» прошла презентация сборника в переводах с эстонского поэта, эссеиста Алексея Пурина.
Автор начал писать эти строки уже в сентябре «страшнейшего года» в Ферраре, в феврале 2016 го сборник был завершен. Пожалуй, только трагедии могут с такой достоверностью объединить первую и настоящую поэтическую реальность творца с той, где он пребывает физически. Смерть Гоар, невозможность смириться с утратой, легли и в основу романа Калле Каспера «Чудо».
Форма «Песен Орфея» — почти всегда двустишье, песен у эстонского орфика 76. Примечательно, что поэтика приближена к древней, выражена чистым цветом, но на это письмо наложен весь литературный, кинематографический опыт автора. Внешняя простота поэтического высказывания парадоксальным образом рождает ощущение, что наш мир продолжает пребывать в античном
– его ясность, солнечность, неразрывность с природой, как кокон до сих пор защищает мироустройство Каспера.
Гоар Маркосян – Каспер в своем творчестве разделяла это существование в античной парадигме – именно эта любовь и друг к другу гармонизировала существование этих двух поэтов новейшего времени, чья физическая и метафизическая связь проросла из-под обломков СССР.
Сборник имеет линейное начало – поэт, вслед за Данте и Петраркой, пытается справиться с обрушившимся горем. Петрарка ежегодно отмечал годовщину знакомства с Лаурой написанием сонета – каждый год Калле едет в Венецию, где всюду видит ее тень, бросает с моста маленькие серёжки…
То, что Каспер подробно описал в «Чуде», в стихах представлено как больной, пульсирующий сгусток. Только шесть строк посвящены обращению в прах любимой женщины, полукриминальному перевозу пепла из Барселоны в Венецию – она мыслится ему Элизиумом. Canal Grande, откуда прах сброшен в воду, смешавшуюся с летейскими потоками, точнее, вид, который открывался с этого моста, Гоар считала совершенством цивилизации. Глубина и объем создаваемого пространства, космогония Каспера подобна той, что родилась у Артюра Рембо в «Пьяном корабле»: она достигается с помощью быстрого чередования планов, как и французский поэт, автор постоянно разворачивает сюжет то по вертикали, то по горизонтали. То смешивая тех, кто населяет Элизиум – Ахилла, Ореста, Микеланджело – теперь общежитников, то снова выделяя себя и Гоар в отдельных персонажей действия.
И в «Песнях Орфея», и «Чуде» Каспер настойчиво, лейтмотивом выписывает чувство собственной вины за то, что не уберег. Теперь их абсолютное счастье имеет привкус горечи и змеиного яда – ведь Гоар, полюбив его, должна была покинуть солнечную Армению и идти за ним в его темное таллиннское бытие. Наверное, тогда болезнь и стала вползать в грудь Гоар, как змея – предполагает он.

Всего четыре года разделило Орфея и Эвридику – после второй утраты любимой его несчастья не закончились: об этом пишет чешский исследователь Войцех Замаровский. Орфей погибает от рук разъяренных фракийских вакханок. Они же под Родопскими скалами стали забрасывать его камнями, но камни останавливались на лету, очарованные пением Орфея. И вот он, земной конец: «Тогда вакханки набросились на него подобно стае хищных птиц, разорвали на куски, а голову и лиру бросили в воду Гебра».
Большое число творений посвятили Орфею композиторы, художники, скульпторы. Придал судьбе античного героя пафос библейских страданий Манук Жажоян в эссе «Случай Орфея», где объединяет образы Эвридики и жены Лотта. Причем, случайно, где произошел случай интерференции: наложения структурно однотипных сюжетов: запрет оглядываться – оглядка – наказание.
Пожалуй, эстонский Орфей, не смотря на то, что в ряде стихов подан легко, комично, по-лукиановски, он расширяет галерею героев Эллады, трагизм и «святость» которых уже встроена в христианский мученический контекст. Таков Орест с его невыносимыми муками совести, верность Пенелопы. Орфей Каспера не просто оплакивает разлуку, он спускается в свой собственный ад для того, чтобы раскаяться в том грехе, которого не совершал. Для Каспера виноват тот, кто остается жить.
Попутно автор укрепляет античное тело своего стиха мифом Платона об андрогинах. Влюбленные срослись, как «жила с костью, мышцы с жилой». Но «нож мясника сверкнул – и разрубил их пополам».
В окулярах Каспера ад постоянно двоится, по сути его пространство расширяется до бесконечности. Адом была больница, потом им становится все пространство-время без Неё: и ночь, и гостиница, где он вспоминает их близость, а нынче сходит с ума в одиночку. Приметы Айдеса и в пустой электронной почте.
Ад разрастается и как опухоль в груди, погубившая жену и музу «садом расходящихся невозможностей». Именно поэтому так много способов спасения Гоар-Эвридики изобретает муж-Орфей. То он собирается в царство теней, как в командировку, беря с собой носки, зубную пасту и верёвку; то предлагает любимой бежать как в приключенческом фильме из тюрьмы на мусоровозе, страдая от зловоний, к вожделенной венецианской воде; то намекает, что нужно убить Цербера ударом острого каблука: то просит ее посидеть у него под веком, в слезе, и так незамеченными перейти таможню.
Алексей Пурин не боится на пике самого сильного приступа боли вносить интонации на понижение. Этим качеством обладал Уильям Сароян, все время раскачивающий чувства читателя так, что он не может ни заплакать, ни засмеяться.
Вот, например, такой оборот:
Верните плоть и душу Эвридики!
Не вещь, но всё же собственность моя:
Ее слепил я из небытия, —
Не думайте, что это просто бзики.
Если бы мы захотели услышать эти стихи по-эстонски, мы бы удивились, что в оригинале эти стихи русским ухом слышаться психоделичными. Так происходит потому что в эстонском языке много долгих гласных и согласных – вторые и рождают эффект «спотыкания», заикания, невозможности говорить.
Самое страшное для всех нас послевкусие – это чувство неразделенности боли поэта. Здесь не работает армянское цавт танем («возьму твою боль»), не сдвигаются к горю камни и звери, здесь не плачут Эринии и Персефона…
С новой силой, новым ядом змея, укусившая Эвридику, приползает к нему.