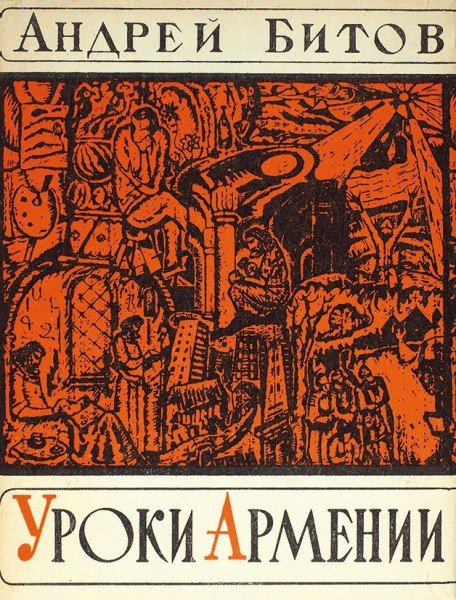«Наша Среда online» — В отечественный литературный процесс Андрей Битов вошел как «шестидесятник» и один из авторов «молодежной прозы», принадлежащий к прозаическому крылу «ленинградской школы». В отличие от «москвичей», «ленинградцы» воссоздавали мир маленького человека, не отличающегося героизмом, даже маргинального, обладающего стертостью личностного начала. Их персонажи были непримечательными людьми, заурядными и зачастую скучными. Представители «ленинградской школы» А. Битов, А. Кушнер, В. Голявкин, Р. Грачев, В. Попов выбрали вместо яркости, броскости и четкости позиции психологизм и рефлексию.
Андрея Битова относят к «цеху» постмодернистов такие исследователи, как М. Липовецкий, И. Роднянская, О. Богданова. Его герои, периферийные относительно центра, вполне вписываются в постмодернистский контекст. В 1970-е годы художник увлекается миксованием текстов, перекомпоновывая готовые, ранее созданные произведения. Он публикует сборники «Образ жизни» (1972) («Сад», «Жизнь в ветреную погоду», «Колесо», «Уроки Армении»), Семь путешествий» (1976), «Дни человека» (1976). Все эти произведения объединяют жанровые схождения, тексты связаны друг с другом эмоциональной оценочностью, психологической глубиной, внутренней искренностью, нравственной рефлексией. Воссозданные А. Битовым художественные коллизии не вписываются в стандарты каких-либо психологических стратегий, их зачастую сложно отнести к определенному временному контексту, хотя сложно и отделить от времени появления того или иного произведения. Модификация жанров отдельных произведений и сборников становится результатом стремления писателя дорабатывать уже законченные тексты, что является характерным признаком постмодернизма. Герой А. Битова, не совпадающий с самим собой, имеет абсолютно постмодернистскую природу: «его идеал подвижен и неустойчив, его внешность аморфна и текуча.<…> герой Битова уже в ранних рассказах предстает героем-симулякром, жизнь вокруг него фиктивно-симулятивна, его сознание релятивно (и иронично), его личностная энергия деконструктивна» [1, c. 97].
На несколько десятилетий жанр путешествия становится ведущим в творчестве А. Битова. Рефлексия автора-героя, вплетаясь в национальный колорит повествования, обусловливает лирические отступления в сюжетном движении произведений. Повесть-путешествие «Уроки Армении (Путешествие в небольшую страну)» (1967–1969) становится одним из ключевых произведений А.Битова о путешествиях. Жанр «Путешествия к другу детства» (1963–1965) – это синтез путешествия и биографии, где присутствует нарушение хронологии, связанное с дискретностью, и появление героя-дублера.
В повести–путешествии «Уроки Армении (Путешествие в небольшую страну)» А.Битов отдаляется от постмодернизма и «примыкает» к критическому реализму: «Кажется, что Битов отошел от своего и пошел по чужому пути: подобно писателям-деревенщикам отправился на поиски идеала в мир естественного, наивного, доверчивого, не испорченного цивилизацией человека» [1, c. 99].
А. Битов неслучайно выбирает другое, экзотическое, пространство – Армению вместо традиционного русского духовного оазиса. Повесть–путешествие «Уроки Армении» можно обозначить как литературное произведение, описывающее путешествие героя-рассказчика и объективирующее социокультурное и ментальное взаимодействие с другой реальностью, усвоение культурных кодов, открытие новых географических объектов, особенности восприятия чужого пространства. Речь, соответственно, идет о специфическом травелоге, смыслообразующей для которого выступает дихотомия «свое-чужое», анализируются различные географические и культурные ландшафты, подробно описывается перемещение автора-персонажа в пространстве, особое внимание уделяется посещению знаковых мест, влияющих на судьбу и мировосприятие путешественника. В травелоге герой «вписан» в окружающее пространство, но социокультурное взаимодействие с другой реальностью, усвоение культурных кодов, открытие новых географических объектов, особенности эмоционального восприятия для литературного путешествия не являются ключевыми характеристиками. Основным художественным принципом таких текстов становится гармоничное проникновение путешественника в ментальность «другого», что является своего рода попыткой погружения автора – персонажа в абсолютно иную реальность, которая никогда не станет своей, но при этом не останется и абсолютно чужой. «Таким образом, представитель “городской” прозы Битов в очерково-документальном жанре делал попытку отыскать “гармонию в природе”. Однако она не была органичной для писателя и содержала в себе множество “тезисов” и “антитезисов” (названия подзаголовок в “Уроках Армении”)» [1, c. 101].
А. Битов возвращается к постмодернистской эстетике и в поисках новых смыслов опирается «не на естественно-природную, народно-национальную, историко-патриархальную традицию, а <…> на культуру, литературу, интеллектуальную традицию» [1, c. 101]. Травелог «Уроки Армении» так или иначе включает отступление от сюжетной линии, поскольку все события происходят во внутреннем мире автора-персонажа и текст становится многоуровневым, философским, предполагающим высокую степень рефлексии как личное путешествие. Фиксируя в тексте ощущения от перемещений во внешнем пространстве, писатель создает собственную модель мира и транслирует только свою концепцию духовного путешествия.
Армения в повести А. Битова может рассматриваться как пример пространства, объединяющего природу и культуру. Культурным кодом, способствующим идентификации этого места и нахождению автора-персонажа в соответствующем культурном поле, становится Арарат: «…Довольно мрачная, насупленная гора, словно недовольная открывшимся ей видом. Молчаливая гора – именно такое впечатление обета молчания она на меня произвела. Может, это естественно для потухшего вулкана. И потом – гора смотрела. Я на нее, она на меня, и я чувствовал себя неловко» [2]. Армения, первоначально воспринимаемая автором-персонажем как таинственное пространство, постепенно начинает ощущаться им как некий живой организм. Он чувствует неразрывную связь с этим местом, живущим одновременно и прошлым, и будущим, и погруженным в бесконечный простор: «Передо мной был неведомый эффект пространства, полной потери масштаба, непонятной близости и малости – и бесконечности» [2]. Армения, в которую стремится автор-персонаж действительно представляется ему страной «реальных идеалов»: «И где взял я, как родился во мне образ некой горней страны, страны реальных идеалов?», [2], где каждый предмет равен самому себе, и каждое явление себе самому соответствует: «Между тем страна эта всегда была рядом, где бы я ни был; просто страна, где все было тем, что оно есть: камень – камнем, дерево – деревом, вода – водой, свет – светом, зверь –зверем, а человек – человеком. <…> Страна с одним городом, озером игорою, населенная моим другом!». [2].
В этом мире все более чем органично, поскольку пространство воспринимается автором-персонажем на глубинном, ментальном уровне. В процессе путешествия автор–персонаж обретает личный опыт, но при этом репрезентирует локус, в котором находится. При этом внутреннее перерождение героя после возвращения зачастую приводит к конфликту с привычным окружением: «Путешественник, странник, скиталец – всегда вестник нового, он противопоставлен инертным и оседлым, он привозит не только впечатления, но и артефакты, свидетельства своего пребывания в других странах. Движение, путешествие противопоставлено спокойствию и инертности, что получает свое развитие в дальнейшем в мотивах противопоставления романтического бунтаря обществу: его духовный рост – антитеза той инертности, которая характерна для окружающего общества» [3, c. 33]. Глава в тексте А. Битова носит название «Кавказский пленник», поскольку автор-персонаж чувствует свою зависимость от очаровавшего его пространства Армении. Он ищет гармонии, но вернувшись в свою прежнюю жизнь, утрачивает с трудом обретенный безусловный покой: «Что заставляет меня и мучиться, и крутиться действительно как на сковороде? Почему я не принимаю жизнь такой, как она есть, той, что происходит со мною, – ведь более глубокого примера и опыта, чем свой собственный, у меня нет и мне не с чем сравнивать, не к чему ревновать? Если я не видел и не знаю другую жизнь в той мере, как свою, в чем же дело?» [2].
Для героя А. Битова путешествия по Армении становятся реальностью в отличие от жизни в Москве. Таким образом, герой А. Битова очаровывается «другим», а собственная жизнь воспринимается им как ложная и негармоничная. Покинув Армению, автор-персонаж испытывает тоску по оставленной стране «реальных идеалов», что и не позволяет ему воспринимать свой мир как единственный. Даже собственный алфавит проигрывает перед чужим, кажущимся таким красивым: «Да простит мне Россия, я готов согласиться: наш алфавит проигрывает… У ’’великого, могучего, правдивого и свободного’’ (Тургенев) не убудет от такого заявления. Собственно, раньше я о достоинствах нашего алфавита почему-то не задумывался» [4]. Армения же становится для героя особым, поистине подлинным миром, никак не связанным с повседневностью, и потому остается вечным праздником: «Во всяком случае, ничего своего в ощущении цвета в Армении у меня не было. Хотя, конечно, я легко отдаю должное их подлинности…» [4].
Автор-повествователь возвращается во вновь обретенную страну и погружается в армянский географический и культурный контексты, пытаясь таким образом понять причины зависимости от соблазна «другого». Все, что его окружает в Армении, проникает в подсознание и заставляет смотреть на мир сквозь призму природных ландшафтов и культурных объектов. С точки зрения Т. В. Цивьян, каждый город как любой символ «отпечатывался в виде минимального набора признаков; так возникали сигнатуры города <…>которые затем тиражировались в бесчисленных словесных и несловесных, художественных и нехудожественных текстах» [5, с. 41]. В повести-путешествии А. Битова «Уроки Армении» четко очерчены сигнатуры страны, способствующие идентификации этого места и нахождению его в соответствующем культурном поле: Матенадаран, Звартноц, Севан, Гехард, Эчмиадзин, Арарат. Армения переворачивает сознание автора-персонажа, и погружение в этот экзотический ландшафт происходит именно через культуру, религию, искусство, язык, алфавит, неслучившуюся любовь – все то, что выстраивает Армению не только как мифологический образ, но и как реальный мир, вдруг открывшийся автору-персонажу во всем многообразии с удивительной ясностью. Происходит погружение в мифологический и библейский контексты, в прошлое и настоящее, в чужую, но абсолютно свою ментальность: «И такая подлинность и единственность этой страны снова и снова является тебе, что подлинность эта кажется уже чрезмерной» [4].
Поиск подлинности и поиск истины приводит автора-персонажа на Севан и заставляет ощутить библейский свет озера как основное «физическое переживание»: «Впервые он был для меня чем-то таким же осязаемым, что ли, как вода, ветер и трава. От него было не спастись, не деться, не укрыться. Более того, я словно и не хотел прятаться от него, хотя он доставлял мне истинные мучения: уже через два часа после сна глаза болели, слипались и слепли и какая-то особая усталость передавалась именно через глаза всему телу. Даже тёмные очки я спрятал в первый же день на дно чемодана, и не только потому, что не хотел выделяться среди моих друзей, которые их не носили: мне хотелось испытывать эту непонятно сладкую муку, хотелось, чтобы весь свет, до единого луча, прошёл сквозь меня за эти две недели, до последнего дня и часа. И если Армения – самое светлое место в моей жизни, то Севан – самое светлое в Армении» [4].
Для героя повести А. Битова Армения – земной эквивалент рая, поскольку путешествие воспринимается сознанием автора-персонажа как недолгое, но, безусловно, знаковое в иную, абсолютно гармоничную реальность. Автор-персонаж видит то, что наблюдает любой турист, но, созерцая традиционные культурные объекты и прикасаясь лишь к видимой части айсберга, он, тем не менее, воспринимает Армению как место, где невозможно ощущать себя потерянным, отвергнутым, чужим. Он погружается в тот мифопоэтический контекст Армении, который воспринимается им как единственно подлинный: «Тут все, отражаясь, повторяло друг друга, утверждая гармонию и единство всех сущих форм, и, когда мы пытались выделить, в чем же это единство, взгляд скользил вверх, вверх, чтобы остановиться на чем-то как на центре подобия, и нигде не мог остановиться, и вот нам уже некуда больше смотреть, как в небо…» [2].
Таким образом, повесть-путешествие А. Битова, репрезентирующая достопримечательности Армении через ассоциации автопсихологического героя, выступает как философская разновидность травелога, в котором истинные события происходят даже не во внешних локациях, а во внутреннем, душевном пространстве автора-персонажа.
Кислова Л.С.
Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры языкознания и литературоведения
Рацен Т.Н.
Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры языкознания и литературоведения
Ветошкина М.А.
Аспирант кафедры языкознания и литературоведения Тюменский государственный университет
Литература
1.Богданова О.В. «Постмодернизм в контексте современнойрусской литературы (60-90-е годы XX века – начало XXI века).СПб.: Филол.ф-т С.-Петерб. гос ун-та, 2004. 716 с.
2.Битов А. Уроки Армении [Электронныйисточник]: https://magazines.gorky.media/druzhba/2017/5/uroki-armenii. html.
3.Головченко И.Ф. Литературное путешествие: проблема жанра //Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2017. №1. С. 32–38.
4.Битов А. Уроки Армении // В теплой тихой долине дома. Проза обАрмении. М.: Молодая гвардия, 1990. 384 с. [Электронныйисточник]: https://shorturl.at/1cbYn
5.Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во ИванаЛимбаха, 2001. 248 с.
Источник: Арарат: русская и национальные литературы: Материалы международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2024 г.- Ер.: Мекнарк, 2024.- 267с. Публикуется с разрешения автора проекта доктора филологических наук, профессора М. Д. Амирханяна.