ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
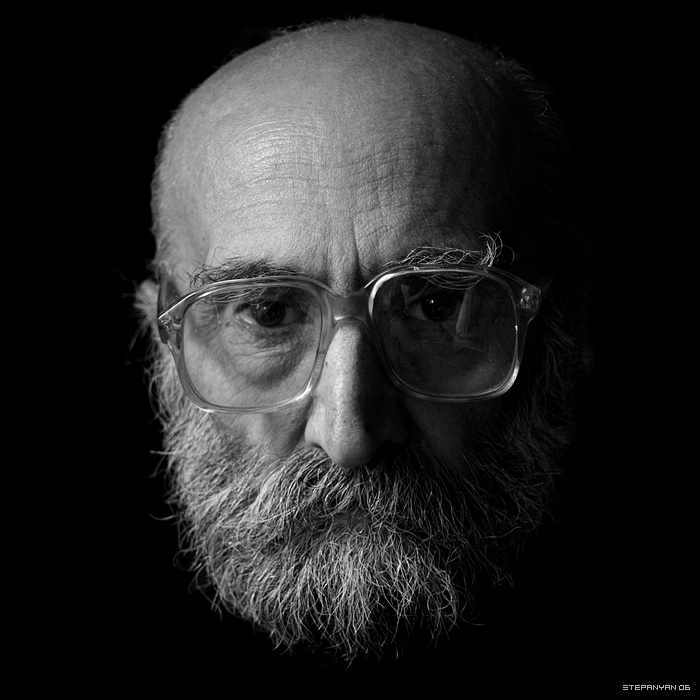
(Премьера пьесы Агаси Айвазяна «Исправительный дом Чаренца», в постановке Ерванда Казанчяна состоялась в театре им. Пароняна 08.10.2011 г.)
Генетика творчества — это тайный знак, брошенный
в мир людей. Но тайна имеет трагическую судьбу
на пути познания Пространства, Времени и Истины.
Рубен Ангаладян
Насмешка гордая обманутого сына…
М. Лермонтов
Когда в социуме властвует «истина», перед которой человек бессилен: ни принять её, ни компромиссно проживать с нею он просто не может, тогда, чтобы не умереть от бессилия, он идёт в искусство. И если он творец, то представляет этот многослойный социум, а если он размышляющий гражданин, то в работе творца он ищет волнующие его вопросы и ответы.
Театр — творец, зритель — размышляющий гражданин. Театр — это след жизни и, значит, место для интеллектуального труда.
Драматургия мертва без театра, и то, что уже пятый театральный сезон режиссёр Ерванд Казанчян поднимает на сцену своего театра музкомедии пьесу Агаси Айвазяна «Исправительный дом Чаренца», говорит и об интеллектуальном союзе режиссёра с драматургом, и о востребованности зрителем того, «что» сказал драматург и «как» это увидел режиссёр.
Агаси Айвазян — классик: его читать и перечитывать, его играть и переигрывать.
Форме и содержанию нужны еще ясность мысли и четкость идеи. Чтобы читатель или зритель понял, о чем и зачем говорит автор, важно уметь видеть жизнь глазом не физическим, как органом зрения, но глазом ума и души, уметь увидеть «глубину глубины». Такой глаз, внутренний, приобрести нельзя, это дар природный.
Агаси Айвазян — писатель не для отдыха, не для развлечений. Даже в комедиях он ведет за мыслью мысль. Он не просто воспроизводит жизнь, он приглашает к размышлению над нею… над её стигматами.
Импровизация — так обозначил драматург жанр своей пьесы, как инструментовку к известному исповедальному произведению Е. Чаренца «Исправительный дом Еревана». Это требует режиссерского проникновения во внутренние нюансы высокой личностной трагедии сквозь бредовую зоологическую среду человеческого происхождения, представленную в обширной сцене импровизации драмы А. Ширванзаде «Из-за чести». Импровизация в импровизации — аллегория, и она отвлекает, помогает сердцу выдержать то, чего не может принять разум, это эзопова метафора человеческого общего жития.
Вот ведь никакой образованностью, никому и никогда ещё не удалось прочитать иероглифы Неба — код хода жизни земной; никто так и не понял: почему человечество постоянно выбирает не преобразующие реформы, а конкурентные войны и революции; почему на массу людей в миллиард — всего-то одна, две Личности…
Фидий. Роден. Микеланджело… Христос. Макиавелли. Фрейд…
Бах. Бетховен. Вагнер… Сервантес. Шекспир. Достоевский…
Галилей. Циолковский. Эйнштейн… Перикл. Пётр. Ганди…
Пушкин. Блок… «умрешь, начнешь опять сначала, и повторится всё, как встарь»…
Чаренц… «предвещая зло и разрушение, бурей летит старый Аквилон»…
Вечный Аквилон — Северный ветер… и снова… и дальше. И от неизвестного начала Имя одно понятно всем миллиардам — Бог. Но и Его каждый рисует похожим на себя и именем своим называет. И то по кругу, то по спирали, то забывая Его, то не помня себя, миллиарды людей ежеутренне желают друг другу здоровья, ежедневно внимают речам своих властителей и ежевечерне уничтожают друг друга… «сильные» — «слабых».
Сундукян, Ширванзаде, Паронян, Айвазян — преемственное обогащение отечественной драматургии, каждый с тематикой своего времени. Пьесы Айвазяна — многожанровые, с насыщенным ядром авторского осмысления общечеловеческих страданий и чаяний, обрамленных добро-печальным айвазяновским юмором.
«Исправительный дом Еревана»… окружение, которое должно его, Егише Чаренца, исправить. Мучаясь раскаянием о содеянном, поэт бичует себя, скандалиста и пропойцу. И разные критики, по своему уму-знанию подхватывают это: одни с упрёком, другие с оправдательными аналогиями, вот, ведь и Сергей Есенин…
Психосостояние души, психосостояние ума, психопротивостояние… когда сожмёт мозги бесправие-бессилие в ступенчато-слаженной властной своей-не-своей стране от массы, от услужливо-служивых, от дом-бездомности; когда вопросом вдруг по лбу: не в то время попал? не в ту страну? не в тот народ? не в те улицы? не в те люди?.. И ты в госкапкане атмосферы страха и бессилия. В таком состоянии разные люди разные действия совершают и в разные дома попадают. Ведь не учат же с детства: «Молчи, скрывайся и таи и мысли, и дела свои». Да и возможно ли это, если ты мыслитель и патриот, а дар тебе дан свыше, и только с правом передачи результата его другим.
В ракурсе «гений и злодейство не совместимы» взрыв-поступок — самоубийство: за ним следуют самоосуждение, осуждение и осмысление мировосприятия поэта уже по произведениям его, в ряду которых и «Исправительный дом Еревана».
Драматург конкретизирует: «Исправительный дом Чаренца», и сразу — флюиды большой трагедии: Чаренц, поэт от Бога, слово его — камертон, а он людьми заброшен в Исправительный дом. Время «корректируют» люди «временные», но для всех живущих в нем оно — их жизнь, которую «не выбирают, в них живут и умирают». Как только философски ни определяли Жизнь: «ад», «перевалочный пункт», «сказка», «сон» и вот — «исправительный дом».
Название пьесы указывает на ограниченное место действия — исправительный дом, тюрьма. Содержание же её представляет развёрнутый образ конкретной страны-тюрьмы в конкретном времени, с конкретным социумом, тем, где Властная истина допускает одно-единственное ложе — своё, прокрустово. И сам драматург едва сумел уберечься от него усилиями внутреннего самоконтроля: ведь жил он во второй половине того же соц-полит-времени, первая половина которого досталась поэту. Трудно сопереживать Гамлету в его Дании-тюрьме, но труднее жить в своей стране-тюрьме-исправительном доме, где сверхзадача власти — силовое создание нового человека, человека массы, методом отлучения этой массы от Личностей.
По-разному приходят люди в мир: одни «в рубашке», счастливчики, другие невезунчики; одни жалуются на жизнь свою собачью, другие пристраиваются к правилам чужой игры, «делают карьеру»; одни подминают обстоятельства под себя и живут в ощущении вкуса жизни; другие, задыхаясь под стечением обстоятельств, заняты поиском смысла и цели жизни. И вроде бы справедливо, что он, Неистовый, Чаренц, от шумно-неуправляемого состояния своего попал в неуправляемо-шумный процесс и оказался в порочно-исправительном Доме. Только вот ведь обстоятельство: он уже — Чаренц! Он участник, свидетель и летописец исторических событий, которые «потрясли мир» — в год 1914-ый и 1915-ый, 1917-ый, и 1920-ый — мрачное со светлым — всё вперемежку, а он молод и талантлив, и Судьбой ему даны и Время и Вера, Страна имя вот ведь обстоятельство: даны и страна, и д ояния своего попал поэт в шумно-исправительный доми Талант, Любовь и вот… 1926-ой.
Действие пьесы эпически поляризовано во времени: год 1926-ой и год 1937-ой.
Раздвоенность не затаённой мысли автора в ходе действия пьесы — во всём:
два главных героя: поэт Чаренц и начальник Исправительного дома товарищ Погос;
две страны: Армения былая — Наири, и новая, независимая;
два Чаренца: Чаренц 26 г. и Чаренц 37 г.
два лидера: Иисус и Ленин;
два полюса: Личность и масса;
две женщины — две жены поэта: Арпеник и Изабелл;
два вида формования общества: светское и духовное — царь-Арташ и поп Шивош.
Образы их шаржированные, но отнюдь не карикатурные. Новое время видит в них придурков, но это образы сложные, с затаённой идеологией на весах развития действия пьесы: они — краеугольные углы квадрата, два других угла которого являют Чаренц и товарищ Погос.
Поп Шивош — босоногий, отрешённый, мученик веры, он весь во внутренней миграции: заключённый, но не отлучённый, он бьется в бессилии, как рыба об лёд. По ходу действия время от времени он предрекает конец лживому безумию нового мира, но веселая масса принимает его за сумасшедшего — увы, люди-человеки, они инкрустированы в свои обстоятельства. В стагнации разума им, в массе, ни разу не вздрогнуть, не затихнуть перед священником хотя бы в интуитивно-случайной надежде на Истину одного. А ведь это могло бы вернуть зрителя от эмоций к мысли: держало бы его в поисковом состоянии, равном автору, а не в физиологическом хохоте, которым легко заражается зритель в массовке импровизации «Из-за чести».
Позиция автора вмещена во всех героев, главных и, будто бы, второстепенных. Вот, пытаясь достать из конструкции Хусейна куб, Лазги разрушает ее. Отвернувшись от суетности их, сидит поп на кубе с деталью нового человека. Он слышит, как, пытаясь собрать из кубов человека, ссорятся рецидивисты, издеваются друг над другом, выясняя, в ком из них чего больше: хорошего или плохого.
— Человекоубийца! — кричит Хусейн, — я не вмешиваюсь в твои дела. Я с такой любовью…
— Любовью? Ненависть — твоё ремесло. Я одного убил, а ты не сосчитать сколько.
— А убивать… легко? — озадачен Чаренц.
— Легче, чем собрать.
— Порочны! Все вы, — не выдерживает поп, — и всё ваше окружение, которое должно исчезнуть… порочны!
— Все лгут, и ты тоже лжешь, — вмешивается Интеллигент.
— И твое слово — враньё, — парирует поп, — вы все тут враньё. Ложь на лжи. Она исчезнет с концом власти земной. Конец будет, конец!
— Какой же конец, когда всё только начинается?
— Лицемеры, притворщики, фарисеи, погибнете все. Интеллигент читает, а ума нет.
— Закрой рот, поп, не делай нас политическими. Ну, обманываем, притворяемся, живем да.
— Любви нет, страх — ваш бог. Порочен мир, и он скоро исчезнет…
— Хватит, поп, надоел. Есть у нас любовь, для тебя она порочная, а для нас нет. — И Мачо на руках уносит Шивоша, на руках и в обрамлении тихой паузой.
— Куда? Зачем? — останавливает его Товарищ Погос.
— В другую камеру, он совсем не то говорит, — остаточным чувством человеческого в себе, охранно-бережно пытается разделить белое от черного рецидивист Мачо.
— Оставь его, «не то» мы исправляем, его тоже исправим. Успокойся, товарищ Шивош.
Вот он — кульминационный красный вызов: успокойся, товарищ бог, мы и тебя и твоё творение переиначим…
Царь-Арташ и турок Али появляются разом, когда оба Чаренца говорят о родине:
Чаренц 37 г. — … обобщение времён, как стал ты пленником пошлого безвременья?
Чаренц 26 г. — … я порожденье парадоксов. Объяснение и прощение хранится у будущего
правозащитника.
Чаренц 37 г. — Но я не дам тебе прощенья. Я буду бередить твои раны… в счастливые дни
твои.
Чаренц 26 г. — Которых так мало…и в жизни моей, и в жизни моей Наири… о, я солнцем
вскормленный язык моей Армении люблю…
Царь-Арташ — Кто позвал, кто захотел меня снова увидеть? Отдайте, отдайте мне мою
страну… — ковыряет он раны на своём теле и, нищий, в царском одеянии, он… просит денег… — а «зал» смеётся: рудиментарное чувство юмора нервно опережает осознание виденного.
И Али смеется… над царем, потерявшим свою страну.
И зритель смеётся… над эксцентричным царем, сквозь слёзы смеётся, с внутренней паузой-мыслью… страданием Чаренца: царь-Арташ!? — один из тех, «кто вел нас лабиринтом истории, в тупик заводя каждый раз!? О, вы, легендарные Гайки и Трдаты,
О, вы, пастухи, не сберегшие стада…
Мы, видно, единственный в мире народ,
Богатый таким изобильем невзгод». («Лабиринтами истории»)
Жуткое явление, больное… призыв задуматься над сегодняшним днем страны, ответственная сцена… шутовство, смех — это всего лишь оболочка, усиление боли.
Все образы у драматурга, как и его графические юморески в его газете «Айутюн», чётко атрибутированы. В Исправительном доме «проживают» очень разные люди: администрация, криминал, интеллигенция, потерянные женщины. Добровольно или поневоле втянутые в процесс своего времени, они — пособники, исполнители, свидетели, современники и жертвы; они — архетипы, люди-щепки в идеологической ломке, одна физиология: пустой душе пустое веселье, как наркотик. Душа — клейстер жизни, но главное достоинство её не в бессмертии: когда она пуста — в неё заваливается весь мусор жизни, и ей тогда… никакого бонуса ни тут, ни там.
Авторитета в исправительном доме нет ни у кого. Моральный — у Чаренца 26 г. У товарища Погоса авторитет административный, есть и моральный, потому как он человек воодушевленный. Он вот и Чаренцем 26 г. воодушевлен: причислил его себе в соратники и верит, что в отдельно взятой тюрьме сможет исправить даже поэта, и с ним вместе «извлечет совесть из-под спуда преступлений».
— Мы не наказываем, мы исправляем. Не успеешь сориентироваться в событиях и людях, время так стремительно, а уже — новый человек, свободный человек — великое дело, и вы тоже его соучастник. Все этим заняты: мы даем кубы с изображением частей тела человека, а заключенные из них собирают образ человека — нового человека. Мы боремся против пьянства, безграмотности, веры, против страха и повиновения! Мы изменим судьбу человека и человечества! Классовая борьба. Общество сложное, упростить надо. Интернационал спасет мир, даст равенство и дружбу всем народам, веришь?
Как не верить, если новая история уже «звенит по свету бронзовыми крыльями красного будущего», если ленинская революционная мораль «комсомолом Турции соскребет со лба страны след от руки султана». Кругом исковерканные судьбы, но вот товарищ Погос говорит о Ломброзо… о, он знает его!? — воодушевлённо обманывается интеллект Чаренца: — Ты апостол нашего времени, товарищ Погос, ты человек будущего. Человекоубийц ты превращаешь в человеколюбов, проституток — в добродетельных. На свете не должно быть вражды и зла. Не надо оставлять спокойным скопление отрицательного — пусть кричит, пусть освободится, опорожнит мешок вековых испражнений. Человек — дитя бога и должен быть подобен ему. ХХI век будет веком человеческой чистоты! Наше сегодня упорядочит все души. Человек всегда связан со своей эпохой, и ему не надо отставать…
Товарищ Погос — идеологически лёгкое достижение нового строя на пути построения нового человека: его амёбно-стихийную однолинейность воодушевлённо подпитывает ничтожно-горделивое ощущение «был ничем — стал чем-то». И он воодушевленно верит, что он — апостол Пётр, а бог его — Ленин, что Исправительный дом — формат государства и движущая сила в нём — масса, а Личность — обуза, напряг.
Сплотить массу в общество, дать ей чувство согласованности и единства — это, по большому счёту, задача и государства, и церкви, и семьи, и любого сообщества. Это же видит своей задачей и товарищ Погос, вопрос только в методе: в конце концов, каждое новое время создает своего нового человека. Властно подминая под себя любой люд, сначала свои методы навязывает власть, потом — выросшие в ней исполнители, товарищи Погосы, тот человеческий материал для реализации извечной идеи человечества, что из анекдота: «Плов этот невозможно есть — зубы сломаешь. — Ну, почему, рис ведь тоже попадается». Никакого опыта своего: ни наследственного, ни индивидуального, «я» — только продукт воздействия среды, новой среды. И у массы из таких «я» вектор поведения мотивационный: она «любит страну, какую ей дают; которую потребляет, ту и любит, закрытыми глазами любит».
Подготовка к празднику, как концепция вытеснения, должна помочь стереть в памяти всё прошлое. Внутри квадрата — масса заключенных: женщин и мужчин люмпен-рецидивистов, поглощающих в себя интеллигентов. «Тусклый спектр» их радостей — подготовка к празднику. Неважно к какому, лишь бы иметь ощущение самовыражения. Возможность эту дает им импровизация пьесы, одно название которой щекочет их нервы: «Из-за чести». Убийство — это им понятно, это просто. Но самоубийство, да еще из-за «чести» — нет, это даже очень смешно: честь, мораль — это же бремя…
Параллель «убийство» — «самоубийство» автору философски важна, и балаган-массовка подготовки к празднику импровизацией «Из-за чести» таит шекспирово предостережение: «шуты ведь шутят не шутя». Иначе авторские смысловые акценты получают перезагрузку, и архитектурно-идеологический квадрат пьесы занижено искривляется.
Революция — откровенно-видимое насилие. Она погружает массы в растерянность, интеллект в оцепенение, утверждает гегемонию бессознательного над сознательным. Своеобразным спектром идей погружает массу в безудержно песенно-танцевально-спортивное шоу. В природе, чтоб сохранить культуру, выпалывают сорность, а в социуме наоборот: выпалывают культуру, оставляя управляемую массу: сорность, но полезная.
Девятый вал…сопротивление бесполезно, но невидимо-ощутимая эволюция внутри революции несет конрсилы — сопротивление, неотрекаемость… подумать только, что было бы с человечеством, если бы без конца люди Ума и Веры исчезали бы в прокрустовых ложе. Мало, что каждое переломное время само ломает лучших.
Интеллектуальная данность Чаренца вдохновляет его идеологично, в привязке к параллельному состоянию, в котором он, Личность, вынужден жить. Внешне он — весь в обстоятельствах, ситуациях, событиях, в людях. Пока еще он, как Маяковский и Есенин, — тип поведения человека нового времени: он ещё доверчиво надеется, устремляется, принимает себя частью целого, вдохновляется, всматривается в правила игры: — Если ты поэт настоящий, Помоги страну подымать. — Но внутренней работой мысли своей, подсознательно, интуитивно он соотносит события с собой, прислушивается к себе, отвергает, осуждает, недоволен то собой, то ими.
Новый строй, Исправительный дом — ад, в котором импровизированное счастье подсказывает суфлёр в ходе подготовки к участию в чужом, но новом празднике. Как же отрицать существование ада, если живешь в нем?
Жизнь гения страшна не менее жизни каждого из массы, но утешение его — в сверх-биологической задаче: он может и, значит, должен еще и творчески-честно отобразить эту жизнь. Ко второй половине нового времени интеллектуалы в чрезвычайно весело-счастливой стране научатся спасаться уходом в себя, пока же… Чаренц бескомпромиссно честен и смел, и… растерян, растерян мыслью в лабиринтах истории — «безотцовая Наири» беспокоит его и своим будущим.
1928-ой, 1931-ый, 1934-ый, 1935-ый, 1936-ой — осознание последствий революции, ложь, предательство, разделение страны на власть и народ, красный террор, участь вечно обезглавленного народа, смерть Комитаса, гибель Мясникяна, Ханджяна, и предожидание погибели своей… — Ну что тебе надо, сердце песенное мое?..
Политика сильнее всего: сильнее религии, науки, культуры… — Вокруг меня убийственные тени… Где солнце? Где народ? Где идеал? Чего я ждал? Не этого я ждал… Не я ли первым был в часы молений? — Боль не уходит, и не притупляется, инстинктом выживания она отодвигается мыслью в уголок души… — это как провал в сон после сильного потрясения. Обстановка помещения его в тюрьму Чаренцу кажется игрой ума.
— Умничаешь, потому сюда и попал. Наири, Масис, страна… решетки — твоя родина, —
поясняет Надзиратель 26 г.
Как и жизнь её, коротко свидание с Арпеник…
— Ты, Чаренц, здесь… среди воров и убийц… как? — пугается Арпеник.
— Они наивны, как дети, они не ведают, что творят, они грешники по судьбе и несчастны…
— Ты в тюрьме, в клетке, и как будто рад ей, ты — первый поэт страны?!
— Клетка тоже атрибут состоявшейся страны… первые шаги делаем!
— Я боюсь их… я больше не приду… — И не пришла Арпеник…
…Как маленький ручей, весны глашатай, журча, из жизни навсегда ушла ты.
Свидание с Изабелл — тоже коротко…
— Дети здоровы? другие… армяне, как? надо быстро страну на ноги поставить! —
Она понимает его: рассказывает о Сарьяне, о Тер-Аствацатряне, о других, о положении в стране, как знает, как понимает.
«Да здравствует 6-ая годовщина советизации Армении!» — рисуют заключенные и развешивают плакаты, портреты вождей. На шее интеллигента Миши осталась одна рама, и он обыгрывает эту ситуацию:
— Рамка — это всё, это соль всего. Разные они: одна помещает в себя человеколюбие, другая — патриотизм, третья — справедливость, или честность, или силу… стране бы такую! Если поместить её в хорошую раму, она станет прекрасной!
— Рама страны — это мы: ты, я, они… — наивно, не ведая еще… говорит Чаренц 26 г.
Бравельман, притворно любуясь портретом Сталина, обращается к Чаренцу 26 г.
— Шедевр, да? Сколько будет стоить такая работа?
— Максимально стоит она твоего стремления, — отвечает Чаренц 26 г.
Готовя своих подопечных к празднику 6-ой годовщины советизации страны разыгрыванием сюжета драмы «Из-за чести», Товарищ Погос возбуждает их коллективную нервную систему: — Талант не привилегия эксплуатирующего класса, талант принадлежит народу! — Он разделяет действующие лица на три части: персонажи Положительные, персонажи Отрицательные и зал, который соотносит сюжет розыгрыша со своим опытом жизни и активно проявляет новый вид интеллекта. Сначала все вспоминают «Мурку», потом, недопонимая суфлера, путаются, смешиваются, веселятся. Ключевые позиции «Из-за чести» смачно окрашиваются и «актерами», и реакцией «зала».
Действующие лица спектакля — её ведущие герои и «зал» — это вся труппа театра:
более 40-а актеров, и все они постоянно на сцене, но так слаженны, что картины
меняются с мгновенной легкостью, будто стеклышки в калейдоскопе.
— Честных людей нет, все воры, все крадут! — «Зал» согласно, с возгласами аплодирует.
— Дядя, если не дашь 300 рублей, я опозорюсь, честь моя под угрозой. — «Зал» ревёт: —
Зачем просишь? Революция: забери награбленное!
— Революция права: с вас начинается новое человечество, новый век! — это товарищ Погос.
— Я не армянин, я в ваши дела не вмешиваюсь, — это Хюсейн.
— Половину нашей страны в карман положил и не вмешиваешься?
— Я не карманный вор.
— Тихо! Когда я здесь, молчите все! — люмпен-рецидивист смотрит на товарища Погоса и
Чаренца 26 г, давая понять, что это касается и их тоже, берет под руки интеллигента
Мишу, турка Хюсейна и, кивая на портрет Сталина… — разводит их в стороны… (!)
— Родная дочь считает меня вором и бандитом.
— Прости, отец.
— Прощу, когда заберешь у своего любовника бумаги против меня. Чего только я ни
испытал в жизни: грабил, обманывал, хапал, трижды взяткой суда избежал, ни сна, ни
покоя не знал ради богатства, имени, из-за чести… — «Зал» взрывается аплодисментами:
— Из-за таких вот нас здесь держут!
— Поверь, я буду справедливым судьей. — «Зал» удивлён:
— Где это ты видел справедливого судью?
— Ну, как, товарищ Чаренц?!
— Сеешь, товарищ Погос, основательно сеешь… — пока еще надеется Чаренц на счастье для
страны, загоняя в угол памяти: «Бойтесь данайцев, дары приносящих».
— Да здравствует наш Исправительный дом — передовой отряд коммунизма! — Зовет вперед
заключенный в своё воодушевление товарищ Погос.
Чаренц 26 г. — Красные кони несутся, летят… грешный стихотворец я богохульного века.
Чаренц 37 г. — Снова стою я сам перед собой в удивлении… беспомощный, один…
Мгла терзает закат, и в тумане… запах плесени.
Улыбчивый цинизм празднует свою победу над растоптанной истиной.
И ты был с ними…
Чаренц 26 г. — Среди них… не с ними. Я был со своей страной, а она была с ними…
Это эпическое утро моё…
Чаренц 37 г. — Это мой рассвет последний… Ссыльный на собственной родине…
опустошенный жесточайшим рвением своих же министров и начальников…
Большой праздник продолжается: марш, непонятные возгласы, блатные песни, шум, хаос-радость… Неожиданно всё прерывается выстрелами и… тишина.
Расстрел всех — впечатляет зрителя… как у Э. Радзинского: «Человечество жестоко… только кровь считается». Такова жизнь, и в ней есть теза, что она всегда права:
смерть, воскресение, и снова, и снова… какою жертвою? кому? зачем?
Апогей, финал спектакля — эффект прямого воздействия: расстрел праздника. Мощная метафора эмоционально ошеломляет, и ревностно хочется отдать режиссерскую находку автору. Но по возвращению к мысли, понимаешь, что жизнестойкость пьесы — еще и в вариативности её конца: праздник может быть прерван и одиночными выстрелами… пуля — дура, но она — главный герой времени: убирают Интеллект, ни к чему оно обществу — новому, веселому. Конец может быть и узнаваемо неожиданным: стреляет не кто-нибудь, а сам товарищ Погос. И, конечно, финал может остаться авторским: праздник смерти продолжается — праздник за решеткой…
Что «мир — театр» — это сентенция бытовая, но что «театр — мир» — истина вековая.
«Жизнь — игра, в которой каждый играет роль своего имени» — афоризм утешающий. Вот и о своей жизни и творчестве драматург сказал: «Наивно думать, что играл я только ради игры»…
У каждого — свой крест; и у каждого времени — свой крест;
и у каждого — свой крест, да еще и крест своего времени;
и у каждого — свой крест, крест своего времени, да еще и крест своего народа…
и помнить об этом — каждому из этого народа,
и поддерживать друг друга — крест-накрест.
Кажется, что так именно и прочитывается
завет драматурга и прозаика Агаси Айвазяна,
прошедшего и с Егише Чаренцем по Лабиринтам Отечественной Истории
сквозь кишку Исправительного дома.
Спектакль поставлен талантливыми людьми в хорошей связке:
* Режиссер — Ерванд Казанчян. Еще в ТЮЗе репертуар его поражал диапазоном интеллектуального смеха от Шекспира… через… к Салтыкову-Щедрину. И, слава богу, заслуженный, любимый, «последний из могикан», он не последний — он чуткий и мудрый учитель, у него много учеников, и талантливые из них проявили себя в первом театральном «Айвазяновском фестивале-2010», включиться в который иные маститые режиссеры, увы, не нашли в себе сил, ссылаясь на отсутствие финансового гардероба.
Взяться за сложный по переплетению формы и содержания спектакль о Личности и его Времени такого не простого драматурга как Агаси Айвазян смог режиссер ранга Ерванда Казанчяна, человека, вдумчиво анализирующего мир своего времени языком своих спектаклей в своем театре.
Спектакль монолитно представлен «одним актером» — талантливой труппой театра. И хотя композиционный четырёхугольник растворяется в целом, Зритель уносит в себе самого себя: свои размышления над временем своим в соотнесении с прошлым, что, собственно, и есть желаемое достижение театра.
* Художник — Роберт Элибекян. Нежно-умное творчество его являет синтез многих направлений в искусстве живописи, чем отчасти может усмирить бесполезные споры о языке искусства кисти и цвета. Романтическое, оно уводит и в мир музыки — в элегию, в задумчиво-печальное настроение, и в сосредоточенное размышление — мир медитативной лирики, и в целом представляется спектаклем за нежно-прозрачным занавесом, который тихо и незаметно приоткрывается при непосредственном общении с каждой картиной.
Таков Роберт Элибекян и как театральный художник: исполняя мыслевой, идейный заказ представляемой драматургом и режиссером пьесы, он остается верным и себе: его лирический герой скромно, мудро-тихо выглядывает из деталей декорации, которую в целом уже и не замечаешь, так цельно сочетается она с происходящим на сцене действием.
* Композитор — Юрий Арутюнян. Представляется, что в театр он был влюблён раньше, чем в музыку, настолько он композитор театральный: его музыка в спектакле то органично фонирует, то сама предстаёт действующим лицом: думает, предупреждает, напоминает, страдает. Как осторожно-чуткий поводырь, забыв себя, она думает о каждом и о всех на сцене, и не забывает, что ведет за собой каждого и всех ещё и в зрительном зале. Она нигде не отвлекает на себя, не выпирает, не раздражает, она не цель, но средство для выражения действия. И как в хорошей песне, она воспринимается сердцем зрителя в сочетании со словом в ходе действия всей пьесы.
* Сценическое движение — Левон Иванян. Человек, родившийся для сцены; не подиума, не шоу, а сцены. Она для него не только место, где происходит действие для зрителя, но и место, откуда он сам наблюдает этого зрителя. Он должен его чувствовать, знать, чтобы уметь потом ему же о нем рассказать, ведь он — мим! И не просто актёр-мим, но мим по жизни, о том говорят и внимательно-добрые глаза его, и зыбко-мягко-переменчивая улыбка. Он мастер масштабный, ему по плечу организовать площадь и стадион. Жизнь сполна «наградила» его талант «необходимым» опытом, но, спасибо, не отлучила от сцены, сберегла его для неё.
В поставленных режиссером мизансценах, особенно в динамике сцен массовых, очевидна и мастерская рука Левона Иваняна, и мыслевое проникновение в интеллектуальную канву происходящего в пьесе действия, перенесенного на сцену. Тяжелая масса и каждый в ней отдельно перемещаются легко, быстро, четко и красиво настолько, что зрителю легко следить за этой жизнью перед собою как за единым целым.
Такой вот, с кулак, тандем пятерых талантливых людей: Агаси Айвазян, Ерванд Казанчян, Роберт Элибекян, Юрий Арутюнян, Левон Иванян. Крепким спектаклем он еще раз сказал о том, что продолжается жизнь классического нашего отечественного театра, недалекого и в нашей памяти как театр имени Сундукяна времён Хорена Абрамяна и Соса Саркисяна.