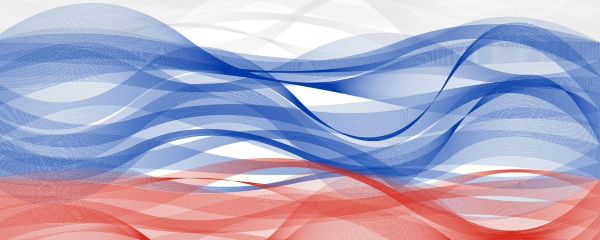«Наша Среда online» — Периоды кризиса и войн ставят перед обществом вопрос о том, кем является гражданин в условиях неопределенности. Патриотизм в такие моменты переходит от абстрактной идеи к практическому действию: он мобилизует ресурсы, закрепляет общие ценности и координирует действия людей и институтов. В то же время кризисный контекст способен превратить патриотизм в инструмент исключения и манипуляций, если он используется элитами для усиления контроля над населением или для оправдания жестких мер. Анализируя этот феномен, важно рассматривать патриотизм через призму гражданской идентичности: как конфликт структурирует представления о «мы», и какое место в этом процессе занимают государственные институты, гражданское общество и повседневная практика поведения граждан.
Истоки и классические контуры понимания патриотизма уходят к разным традициям политической философии и социологии. Во взглядах французского политического мыслителя Алексиса де Токвиля развивается идея гражданской свободы и активного участия граждан в общих делах через ассоциации и муниципальные структуры, патриотизм здесь тесно связан с гражданской добродетелью и коллективной жизнью.
Эмиль Дюркгейм подчеркивал роль коллективного сознания и солидарности, возникающей в результате совместной жизни в рамках определенного сообщества; патриотизм в его схеме становится одним из механизмов сплочения общества, когда нормы и ценности закрепляются в коллективном опыте и ритуалах.
В рамках республиканской традиции патриотизм трактуется как участие граждан в управлении свободой и участием в общих делах ради общего блага, а не как этнокультурная исключительность.
В более поздних анализах заметна последовательная дифференциация между патриотизмом и национализмом: патриотизм акцентирует лояльность к институтам и ценностям гражданского сообщества, тогда как национализм может опираться на этничность, культурную исключительность и претензии на исключительную миссию нации.
В условиях кризиса патриотизм работает как своего рода компас, помогающий ориентироваться в неопределенности. Он мобилизует ресурсы — военную дисциплину, волонтёрство, солидарность в коммунальных инициативах — и задаёт рамки для поведения: что можно считать героическим, что допустимо считать угрозой, как распределяются обязанности и ответственность между гражданами и государством. Но на фоне внешних угроз этот компас может и отклоняться: под давлением страха и быстрого темпа событий формируются простые нарративы «мы против них», которые упрощают сложное и уменьшают пространство для нюансов.
В академической литературе патриотизм часто различают как часть гражданской идентичности, ориентированной на демократические ценности, институты и общие суверенные объекты, тогда как этнонационализм и ксенофобия опираются на этничность и этническую принадлежность.
Гражданский патриотизм подчеркивает ответственность перед обществом, правовыми нормами и коллективными целями, а также готовность участвовать в общественной жизни ради общего блага. Концепции социального конструирования идентичности помогают понять, как кризис формирует символы, ритуалы и практики, которые закрепляют чувство принадлежности и гражданской ответственности.
В условиях внешнего хаоса патриотизм выполняет роль «морального компаса», который направляет поведение масс, способствует мобилизации ресурсов и устанавливает границы допустимого риска и ответственности между гражданами и государством. Однако угрозой остаётся радикальная динамика: в условиях страха и пропаганды простые нарративы могут превращать патриотизм в инструмент стигматизации, дискриминации или подавления иного мнения.
С точки зрения социальной психологии патриотизм оформляется как результат процессов социальной идентичности и нормирования поведения. Групповая идентичность обеспечивает ощущение принадлежности и может усиливать приверженность к общим целям, но при этом сохраняется пространство для критического отношения к институтам и представлениям, если такие институты действуют в интересах справедливости и прав человека. В этом контексте патриотизм функционирует как динамическая адаптивная конструкция: он мобилизует ресурсы граждан и одновременно удерживает в рамках законности и нравственных принципов.
Вклад теории социальной идентичности и исследования гражданского поведения подчеркивают, что патриотизм не обязательно сверкает единой эмоциональной окраской у всех поклонников одной общности: он может принимать различные формы от спокойной привязанности к активному гражданскому участию и критическому диалогу с государством.
Современная трактовка патриотизма неразрывно связана с различиями между либеральным и гражданским патриотизмом. Либеральный патриотизм подчеркивает привязанность к институтам, ценностям свободы, равенства и прав человека, при этом склонен ставить под сомнение этнокультуральные или сугубо этнические определения нации. В рамках цивилистической и либеральной традиции патриотизм рассматривается как этичное и конструктивное чувство, которое может служить источником координации общественных действий и защиты политического порядка без разрушения прав меньшинств. В противопоставлении к этому гражданский патриотизм ставит в центре гражданское участие, ответственность за общее благо, доверие к праву и институтам, а также активное участие в общественных дебатах и политическом процессе.
В работах таких авторов, как Майкл Уолзер и Марта Нуссбаум, подчеркивается, что патриотизм может быть совестливым и прогрессивным образом жить в условиях многокультурного общества, если он опирается на идеи равной свободы и уважения к различиям.
Смысловые функции патриотизма в обществе можно рассматривать через несколько ключевых каналов. Во-первых, патриотизм служит социальным клеем: он способствует сплочению в условиях кризиса, мобилизуя граждан к совместным усилиям и поддержке общих институтов. Во-вторых, патриотизм оказывает регулятивную роль, устанавливая рамки допустимого гражданского поведения и доверия к праву; он формирует моральное основание для сотрудничества и взаимопомощи внутри сообщества. В-третьих, патриотизм стимулирует гражданское образование и воспитание, побуждает к участию в общественной жизни, выбору и контролю за деятельностью властей.
Но вместе с тем патриотизм несет риски: при превращении в инструмент исключения или подавления оппозиции он может оправдывать агрессию, нарушение прав меньшинств и подавление свободы мысли. Поэтому ответственная концепция патриотизма требует четкого отделения патриотических ценностей от исключительных или ксенофобных риторик и строгого соблюдения принципов правового государства и гражданских свобод.
Классический анализ патриотизма также обращает внимание на роль символов, ритуалов и гражданской религии как механизмов передачи ценностей и формирования общественного смысла. Ритуалы, символы и публичные образы помогают закреплять общее представление о нации и истории, но несут риск стилизации и манипуляции, если они используются для подавления критического мышления или для оправдания насилия. В этом смысле гражданская религия может служить мостом между чувством принадлежности и критическим отношением к власти: она поддерживает доверие к основным институтам и ценностям, при этом оставляет место для сомнений и переоценки традиционных нарративов.
Идеальная концепция патриотизма в классическом ключе предполагает модернизированное равновесие между любовью к своему региону и ответственностью перед глобальными гуманитарными ценностями. В условиях глобализации и миграционных процессов патриотизм должен учитывать мультикультурализм и межгосударственные обязательства, включая солидарность с гражданами других стран, борющимися за базовые права.
Развивая идею космополитического патриотизма, можно увидеть возможность любить свой общественный мир так, чтобы это чувство не вступало в конфликт с жизнеспособностью и достоинством людей за его пределами. В таких рамках патриотизм становится не противостоянием внешнему миру, а ответственным участием в формировании справедливого порядка внутри и вне границ своей общности.
Таким образом, научно-классическая концепция патриотизма — это не единая догма, а сложный, многомерный конструкт, который объединяет эмоциональные привязанности, рациональные оценки ценностей и активное участие в жизни политического сообщества. Он опирается на традиции гражданской добродетели, социологических концепций solidaritа и институционального доверия, но остаётся открытым к критике, переработке и обновлению в ответ на новые социально-политические условия. В идеальном виде патриотизм должен поддерживать открытость гражданского пространства, уважение к правам меньшинств и праву каждого на достойную жизнь, соединяя любовь к родине с глобальной ответственностью и уважением к человечеству в целом.
Механизмы формирования гражданской идентичности в конфликте:
— Совместная угроза и мобилизация. Общая опасность усиливает чувство принадлежности к нации: люди находят смысл в защите близких, своего города, страны. Этот процесс может усиливать доверие к традиционным институтам — армии, государству, правоохранительным органам — если они работают прозрачно и справедливо.
— Символы, ритуалы и память. Гимны, памятники, памятные даты и символика становятся маятником в хаосе. Они напоминают о прошлом, закрепляют общие ценности и создают ощущение преемственности, даже когда будущее кажется туманным.
— Медиа и нарратив «мы против них». В условиях кризиса информационное поле становится мощным инструментом формирования идентичности. Поддерживающие патриотический нарратив медиа и социальные сети способны объединять людей, но одинаково легко могут породить стигматизацию тех, кто отличается по убеждениям, вероисповеданию или происхождению.
— Волонтёрство и гражданская активность. Помощь пострадавшим, сбор средств, участие в гуманитарных операциях — эти действия оказывают практическое подтверждение чувства ответственности за общество и усиливают доверие к коллективному делу.
— Образование и память будущего. Школы, музеи, архивы и общественные дискуссии формируют представления о национальной истории и месте каждого гражданина в ней. В условиях войны, история становится инструментом воспитания гражданской позиции и критического мышления.
Патриотизм можно рассматривать как компонент гражданской идентичности, связанный с демократическими ценностями, солидарностью и участием в общественной жизни. В кризисном контексте он выполняет две функции: мобилизацию ресурсов и координацию действий граждан и институтов, а также сигнальную роль, определяющую, какие формы поведения считаются героическими, а какие являются— угрозой состоятельности общества. Однако его эффект зависит от того, как формируются нарративы и как обеспечиваются права и возможности для критического участия граждан страны.
Чтобы проиллюстрировать эти механизмы, рассмотрим несколько реальных кейсов:
Германия (1933–1945)
Патриотизм здесь превратился в государственную идеологию, которая потребовала подчинения всей жизни граждан идеалам нацистской власти. В основе лежал культ лидера и концепция Volksgemeinschaft — «народа-общности», где понятия гражданской свободы и индивидуальной совести уходили на второй план ради единого национального проекта. Гитлеровский режим строил свою легитимность на пропаганде величия нации, антисемитской риторике и мифе о «чистоте нации», что закреплялось законами Нюрнберга (1935), ограничивавшими гражданские права евреев и других национальных групп. Масштабировалась милитаризация общества: Gleichschaltung — принудительное выравнивание институтов под партийную доктрину, подавление политической оппозиции, создание партийно-государственной «творческой машины». Патриотизм становился оправданием агрессии: аншлюс Австрии, мобилизация к внешней экспансии, вторжение в Польшу и последовавшие за этим войны. Война и государственный террор привели к массовым преступлениям против человечества, включая Холокост и уничтожение миллионов людей. В итоге такой «патриотизм» разрушил само основание гражданского общества и спровоцировал всемирный конфликт, который обошёлся человечеству непомерной ценой.
— Германия после Второй мировой войны и в последующие десятилетия. Путь к демократической идентичности сопровождался переоценкой исторического прошлого и созданием новых социальных норм. Включение гражданского общества, верховенство закона и конституционное устройство стали основой «партнёрства» между государством и гражданами. Патриотизм здесь стал инструментом консолидации вокруг демократических ценностей и ответственности перед обществом, а не инструментом исключения.
— Сингапур как пример государства с государственно-институциональным патриотизмом. В условиях быстрого экономического роста и внешних вызовов общество ориентировано на дисциплину, коллективное благо и доверие к государственным институтам. Патриотизм выражается через систематическую мобилизацию ресурсов, эффективную координацию межведомственных действий и продуманную стратегию социального консенсуса. Этот кейс иллюстрирует, как патриотизм может функционировать как элемент партнёрства между гражданами и государством в условиях институционального централизованного управления.
Турция. Патриотизм в Турции за последние десятилетия проявлялся как сочетание милитаристской риторики, централизации власти и подавления гражданских свобод под предлогом защиты национального единства и безопасности. Модульность этого патриотизма часто строилась вокруг идеологий стабильности, угроз внешних врагов и борьбы с внутренними «разрушителями единства» — что давало правительству простые механизмы для расширения полномочий и подавления оппозиции. В рамках эксплуатации патриотизма государством является оправдание внешних интервенций и внутреннего усиления контроля: поддержка политики жестких мер против оппозиции, курдского вопроса и других меньшинств под лозунгами «национальной безопасности» и «защиты государства». В таких условиях гражданские свободы часто ставятся под угрозу ради «общего блага»: ограничение свободы собраний, усиление цензуры и давления на СМИ, а также давление на академическое и культурное пространство. Второй важный аспект — подавление гражданской оппозиции и демократии под видом защиты национальных интересов. В периоды кризисов и поляризации, патриотизм становится инструментом легитимации ограничений на свободу слова, преследований журналистов и активистов, а также отстранения политических конкурентов. Часто это сопровождается применением законодательных норм в отношении «терроризма» и «криминализации экстремизма» против критиков режима или региональных движений, что подрывает плюрализм и устойчивость гражданского общества. Третья характерная черта — историческая память и напряженность вокруг курдского вопроса и региональных различий. В контексте сильной националистической риторики, ограничения автономии языков коренных меньшинств и ассимиляционные практики превращаются в маркеры «единой нации», что усиливает социальное разобщение и дискриминацию. Патриотизм здесь становится инструментом контроля над идентичностью и маргинализацией альтернативных точек зрения.
Канада. Здесь патриотизм проявляется в уважении к многообразию и правам коренных народов, поддержке языкового и культурного разнообразия и активном участии граждан в волонтерстве и общественных инициативах. Пометки памяти о прошлом, вовлеченность в образование и адаптация политики под интересы разных сообществ укрепляют чувство общности без исключения кого-либо. Важную роль играет поддержка демократических институтов и соблюдение законности.
Новая Зеландия. Патриотизм здесь проявляется в солидарности, быстрой реакции на социальные кризисы и уважении к коренным народам Маори. Волонтерство, помощь пострадавшим и участие в восстановлении инфраструктуры после стихийных бедствий демонстрируют готовность граждан действовать ради общего блага. Акцент на устойчивости, диалоге и справедливости для всех слоев общества делает патриотизм инклюзивным.
Швейцария. В Швейцарии патриотизм часто выражается через гражданскую ответственность, участие в прямой демократии и уважение к федерализму. Жители вовлечены в решения, которые затрагивают регионы и коммуну, что укрепляет доверие к государственным институтам. Нейтралитет и стабильность сопровождаются заботой о благосостоянии общества и защите окружающей среды ради общего блага.
Роль государства, общества и отдельных граждан.
Государство в кризисной ситуации часто становится центром координации усилий: оно создает правовые рамки, обеспечивает гуманитарную помощь, поддерживает инфраструктуру безопасности и здравоохранения. Но устойчивое патриотическое чувство требует и гражданского общества: независимой прессы, общественных организаций, образовательных учреждений, которые способны критически осмысливать происходящее, защищать права меньшинств и поддерживать диалог. Без такого баланса, патриотизм может превратиться в инструмент подавления и стигматизации. Здоровый патриотизм — это не слепая вера в «мы» и дискриминация «они», а чувство ответственности за общее будущее и уважение к правам каждого человека.
Патриотизм редко воспринимается как единое чувство внутри человека. Чаще он выступает как совокупность повседневных практик и норм, которые скрепляют общество в условиях как стабильности, так и кризиса. Общество, в свою очередь, формирует облик патриотизма через истории, институты и культурные практики, создавая устойчивую среду для гражданской жизни. Когда люди чувствуют, что их вклад важен и что их голос слышат, растет доверие к институтам власти и осознания гражданской ответственности.
Здоровый патриотизм не боится критики и реформ. Он понимает, что государство — сложная система, которая требует постоянной переработки и обновления. Преодоление риска — стремление к монолитной лояльности без вопросов — ведет к застою и утрате доверия. Конфликт и кризис изменяют не только структуры власти, но и повседневные практики, сигналы и смыслы, связанные с патриотизмом.
Важно видеть патриотизм как гражданскую практику, которая может поддерживать социальные ценности и общественное благо населения страны, если государство опирается на открытость, законность и уважение к правам человека. В противном случае гражданский патриотизм рискует превратиться в инструмент недоверия, подавления населения. Патриотизм в эпоху внешнего хаоса и войны способен стать двигателем единства и коллективной ответственности. Он помогает обществу пережить кризис и построить устойчивую гражданскую идентичность, но требует внимательности: чтобы не превратиться в инструмент исключения и манипуляций.
Карапетян Арен Арсенович,
Помощник депутата Государственной Думы, аспирант.
Выпускник МГУ им. Ломоносова, кафедры международных отношений и мировой политики.
Руководитель отдела продаж международного департамента ЦФО Таиланд, Университета Синергия