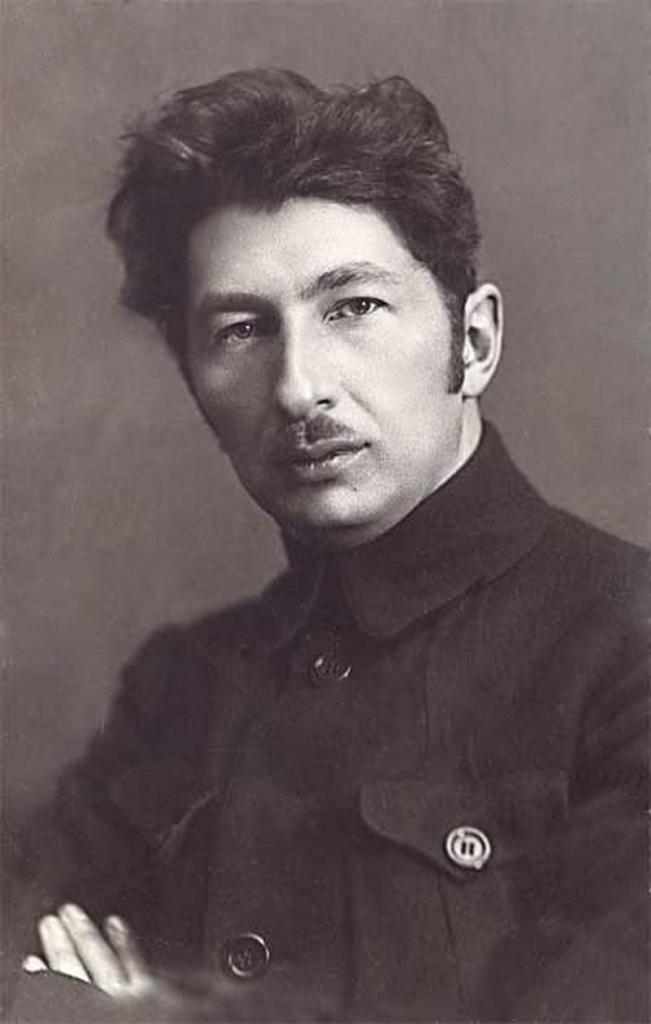«Наша Среда online» — Как известно, армянская тема занимает исключительно важное место в творческом наследии С.М. Городецкого (1884–1967). Оказавшись во время Первой мировой войны на Кавказском фронте, в апреле 1916 года в качестве члена Всероссийского союза городов и корреспондента газеты «Русское слово» он отправился с гуманитарной миссией в Западную Армению, находившуюся на территории Османской империи. Эта поездка, во время которой поэт стал непосредственным свидетелем трагических последствий геноцида армянского народа, стала источником неизгладимых впечатлений и оказалась судьбоносной в его биографии. Как отмечает А. Закарян, «потрясающие противоречия между жизнью и смертью, природой и войной, оскверняемые святыни, боль и лишения армянского народа в духовном мире С. Городецкого, органически впитавшем в себя традиции русской литературы, пробуждают желание самоотверженного служения этому народу» [1, c. 18]. Это служение выразилось не только в подвижнической деятельности по спасению армянских детей-сирот [1, c. 15–34], но и в многожанровом корпусе литературных сочинений, запечатлевших природный ландшафт, культуру, историю и духовное достояние Армении.
В силу жизненных обстоятельств, обусловленных личных опытом пребывания в Армении, ключевым образом армянской геопоэтики Городецкого является город Ван, который ассоциируется в сознании поэта с разорённым, но неизменно возрождающимся земным раем и символизирующим историческую судьбу всего народа. Менее частотным, но семантически не менее значимым в его творчестве предстаёт образ Арарата, который воссоздан средствами лирики, художественной прозы и публицистики.
Так, одна из ранних версий его актуализации представлена в стихотворении «Ангел Армении», написанном в 1918 году и включённом автором в одноимённый лирический цикл [2]:
Он мне явился в блеске алых риз
Над той страной, что всех несчастней стран.
Одним крылом он осенял Масис,
Другим – седой от горьких слез Сипан [3, I, с. 327].
Как видно, Арарат и Сипан выступают здесь в качестве крайних точек, пограничных пределов некогда величественного Айястана, а ныне многострадальной Армении, окутанной «молчаливым, душным дымом» и покрытой «костями белыми армян» [3, I, с. 327–328]. В то же время эти горные вершины предстают здесь и как особые локусы сакральной вертикали, место пересечения земного страдания и небесного покровительства в лице Божественного посланника. Примечателен в этом смысле образ самого ангела, который сочетает в себе несколько функций. Взору лирического субъекта он является в «блеске алых риз» с пылающим, подобным молниям, от гнева взором и метающимся сердцем. При этом чело ангела «светилось, как заря», и высоко над головой в крепко сжатой длани он держит «радугу семи цветов» [3, I, с. 328] как провозвестие возрождения и новой жизни. Упоминание о радуге следует воспринимать здесь как факт Божественного знамения, которое, согласно Ветхому Завету, Создатель явил находящемуся на вершине Арарата Ною в знак окончательного завершения Всемирного потопа: «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и между землею» (Быт. IX. 13). Выполняя миссию Божественного посланника(1), ангел, возносящий над миром радугу, тем самым транслирует волю Всевышнего, согласно которой Армении предстоит «воскреснуть», «восстать» из руин и обрести «счастливую судьбу» [3, I, с. 328]. В результате Арарат в стихотворении «Ангел Армении» прочитывается в символическом контексте как место схождения прошлого, настоящего и будущего, точка пересечения горизонтальной и вертикальной осей бытия, где осуществляется высокий акт Божественного волеизъявления.
Несколько иной ракурс образа Арарата можно наблюдать в публицистических и мемуарных сочинениях Городецкого. Если лирическая модификация этого образа имеет символически-развоплощённый характер, то здесь он обретает зримую плоть и эмпирическую выразительность. Так, в путевом очерке «Спящие вулканы», впервые опубликованном в тифлисской газете «Кавказское слово» (1917, № 160) и позже включённом в цикл «В стране ручьёв и вулканов», автор увлечённо делится впечатлениями, оставшимися от первой встречи с Араратом. В этой лаконичной, но ёмкой художественной дескрипции доминирует ярко выраженная метафорика, благодаря которой Арарат обретает черты живой, одушевлённой сущности: «…мудрой седой головой подымался надо мной Арарат. Неизъяснимым спокойствием дышали его склоны … Даже чувствовалась ирония в снежно-ледяном спокойствии потухшего вулкана» [4, c. 26]. В сознании автора величавая умиротворённость этого природного колосса разительно контрастирует с ужасами войны, происходящими у его подножия, акцентирует нелепость и противоестественность жестокой вражды, царящей в мире людей, и сама по себе предвещает неизбежное окончание бессмысленного кровопролития: «Обетование вечного мира было в ослепительной улыбке Арарата» [4, c. 26].
Созерцание утреннего Арарата порождает в восприятии автора живописные ассоциации, благодаря чему образ обретает богатую колористическую нюансировку: «Вся основа вулкана была грузно-лиловая, а пояс рыже-тёплый, а грудь и вершина такие ясно-алые, что ни коралл, ни сибирский рубин, ни пёрышко фламинго не пойдут в сравнение. Бесчисленные полотна художников хотят передать этот утренний розовый плащ Арарата – и нет сил» [4, c. 27]. Нетрудно заметить, что основу этой вербальной палитры составляют различные оттенки и комбинации красного цвета, не самые частотные для художественной рецепции Арарата в современной Городецкому и более поздней литературной практике [см. об этом: 5; 6], но вполне созвучные с его лирическими опытами в цикле «Ангел Армении» (ср.: «алые уста» [3, I, с. 319], «алый пожар» [3, I, с. 323], «алое вишенье» [3, I, с. 323], «темно-розовое чело» [3, I, с. 325], «алый мак» [3, I, с. 327], «алые ризы» [3, I, с. 327], «алые розы» [3, I, с. 328] и др.). Можно предположить, что на фоне сугубо внешних, визуальных реакций автор актуализирует здесь и семиотический потенциал словесной живописи, позволяющий прочитать метафору «розовый плащ Арарата» как знак любви, жертвенности и надежды, что соответствует общей аксиологической позиции автора очерка.
Значительно позже (в 1958 году) Городецкий вновь вернулся к эпизоду первой встречи с Араратом в цикле очерков «Лирический портрет (Ованес Туманян)». Здесь в описании Арарата преобладают личные, почти интимные интонации, которые определились благодаря значительной временной дистанции, отделяющей событие воспоминания от события встречи и позволившей сформироваться личному отношению автора к Армении в целом и к Арарату в частности с высоты прожитых лет: «На другой день я увидел прямо и решительно вырастающую с земли гору и догадался, что это – Арарат. Он был стройней и величавей, чем Этна. Мы обменялись с ним немыми приветами, обходя щекотливые вопросы о Ное и его ковчеге. Как приветливый хозяин у порога своего дома, он весь день стоял над нами и к вечеру, по пояс в синем снегу, принарядил вершину алой зарей» [3, II, с. 535]. Примечательно, что автор позиционирует Арарат здесь не столько как объект описания, сколько как субъект дружеской коммуникации с присущей ей особой системой условных знаков, намёков и умолчаний, смысл которых понятен только собеседникам. За полушутливым тоном этого фрагмента, контрастирующего с щемящими картинами разрушенного и разорённого города Вана, угадывается нежное, откровенно дружеское отношение автора к народу Армении и к самой стране, любовь и веру в будущее которой он пронёс через долгие годы.
Художественный вариант этого же эпизода, навеянного первым знакомством с Араратом, которому, очевидно, С. Городецкий придавал столь важное значение, представлен в неоконченном романе «Сады Семирамиды», впервые опубликованном в 1971 году уже после смерти писателя. Образ Арарата дан здесь в фокусе восприятия армянина русского происхождения Пахчана, который видит его по дороге в разрушенный турками Ван, устремляясь на поиски своей сестры. По наблюдениям А.В. Филатова, многие образы и мотивы романа Городецкий заимствует из своих очерков об Армении, «сохраняя их в первоначальном виде и внося лишь небольшие изменения», кроме того нередко он «наделяет своего героя чертами собственной биографии» [7, c.102]. Несмотря на это, автору, судя по всему, важно именно в восприятии Арарата дистанцироваться от своего героя, для которого тот «знакомый с детства» [3, II, с. 9].
Испытывая сильную тревогу за участь сестры, Пачхан невольно раздражается при виде Арарата с его идеально правильной геометрической соразмерностью и безразлично-величественным спокойствием, как бы неуместными в ситуации военного хаоса и безмерного человеческого страдания. Суточные ритмы человека и «правильной пирамиды Арарата с его сахарно-белой головой, шершаво-зеленой грудью и кирпично-рыжим подножием» [3, II, с. 8–9] не совпадают: Пачхан с нетерпением ждёт наступления вечера, т.к. ворованную лошадь, необходимую ему для дальнейшего пути в Ван, можно купить только под покровом темноты, в то время как «бесконечный день сиял на челе Арарата, как будто никогда и не будет вечера» [3, II, с. 9].
Тем не менее, в тех нескольких фрагментах, где Арарат попадает в поле зрения Пачхана, он неизменно излучает свет либо отражает свет солнца, чем невольно возбуждает эстетические переживания героя: «Сияющий Арарат остался позади» [3, II, с. 13]; «Все круче вставал над ним матовый блеск остроконечной громадины Арарата» [3, II, с. 16]; «Сквозь облака вершина Арарата засверкала, как рубин, расплавленный в золотом вине» [3, II, с. 17]. Светоносная природа вулкана в какой-то момент вызывает у героя бессознательное желание «схватить солнце за желтые косы лучей и пригнуть его к Арарату» [3, II, с. 9]. И даже ночью, когда весь мир погружается во мрак и человек оказывается беспомощным и беззащитным в этом непривычном для него мире, именно Арарат с его озарённой солнечным светом вершиной оказывается первым предвестником нового дня и знаменует продолжение жизни.
Иными словами, в романе «Сады Семирамиды» образ Арарата играет символическую роль светоча, маяка, путеводной звезды, национального ориентира, вселяющего надежду на преодоление тяжёлых испытаний, выпавших на долю армянского народа. Не случайно в этом смысле авторское упоминание о том, что половина жителей сожженного и разрушенного Вана была «не в силах оторваться от пределов родины, бедствовала вокруг Игдыря, как бы боясь потерять из виду Арарат, в трех переходах от которого лежала их родина» [3, II, с. 19].
Таким образом, в творчестве С.М. Городецкого образ Арарата, возникший на основе личных впечатлений писателя и актуализированный в разных жанровых модификациях, обладает мощным смыслотворческим потенциалом. Обладая символической природой и яркой художественной выразительностью, этот образ концентрирует вокруг себя широкое семантическое поле, которое получает конкретное творческое воплощение посредством мотивов Богоявления, любви, жертвенности надежды, спасения и возрождения. Вместе с тем, для Городецкого Арарат – это и национальный символ Армении, символ народного единства и духовного сплочения как необходимого условия преодоления любых природных и исторических катаклизмов.
Ларкович Д.В.
Доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры филологического образования и журналистики Сургутского государственного педагогического университета
Ганущак Н.В.
Кандидат филологических наук, доцент, декан филологического факультета Сургутского государственного педагогического университета
(1) — Ангел (от др.-греч. ἄγγελος) – «посланник, вестник».
Литература
- Закарян А. Сергей Городецкий в Западной Армении и в Закавказье (1916–1921 гг.). Ереван: Гитутюн, 2015. 230 с. 2. Городецкий С.М. Ангел Армении: Стихотворения. Тифлис: Б.и., 1918. 28 с. 3. Городецкий С.М. Избранные произведения: в 2 т.; [сост. и коммент. В.П. Енишерлова]. М.: Худож. лит., 1987. 4. Городецкий С.М. Об Армении и армянской культуре / под ред. и с предисл. акад. Г.Б. Гарибджаняна. Ереван: Айастан, 1974. 219 с.
- Павлова Л.В. «Цветная» составляющая частотного словаря «армянского текста» // Litera. 2022. № 12. С. 20–32.
- Шафранская Э.Ф., Кешфидинов Ш.Р. Арарат – главный паттерн армянского текста в русской поэзии // Вестник славянских культур. 2023. Т. 69. С. 176–188.
- Филатов А.В. Очерки С.М. Городецкого о Западной Армении как структурно-семантическое единство (на материале публикаций в газетах «Русское слово» и «Кавказское слово») // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2023. № 1. С. 93–104.
Источник: Арарат: русская и национальные литературы: Материалы международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2024 г.- Ер.: Мекнарк, 2024.- 267с. Публикуется с разрешения автора проекта доктора филологических наук, профессора М. Д. Амирханяна.