ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
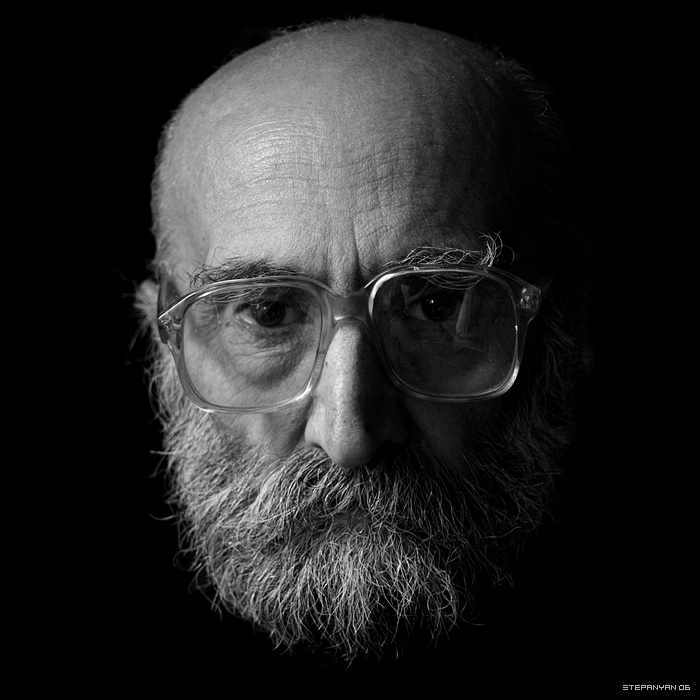
Давид Мурадян как-то заметил, что все мы живем с поднятыми к Арарату глазами, и только некоторые наделены способностью видеть мир как бы с вершины этой мировой горы. Читая Агаси Айвазяна, невозможно не заметить столь характерный для него окоем Ноя, охватывающий не только географические просторы, но и проникающий вглубь времен и высоты духа.
Есть в русском языке такое парадоксальное прилагательное, отрицательная приставка к которому практически не меняет его смысла. Я имею в виду слова «истовый» и «неистовый». Так вот, Агаси Айвазян удивительно страстный, истовый или – если хотите – неистовый армянин. Хотя он, как Уильям Сароян, не требовал «Где бы ты ни был, кричи: «Я — армянин!», но национальное начало выступает в его творчестве некой осью координат, организующей время и пространство вокруг себя и выстраивающей собирательный Армянский мир. И дело даже не в том, что его героями выступают самые разномастные и разнохарактерные армяне. Дело даже не в его пристально-прозорливом вглядывании в суть нашего национального менталитета, и уж тем более не в национальной маркированности сюжета.
Думается, все несколько сложнее и глубже. Говорит ли он о пугачевской эпохе или создает свой собственный мифопоэтический Тифлис в блистательном цикле рассказов, ведет ли по шумным византийским улочкам вслед за постигающим добро и зло Арминусом или окунает в Атлантический океан вместе с безумной эллинкой, заводит ли нас в пахнущий смертью чеченский аул или пересказывает разговор Льва Толстого с лошадью, включает ли в человеческий, слишком человеческий список причастных к трагедии Голгофы – все равно, о чем бы ни писал Агаси Айвазян, сквозь строки неизбежно «кричат», проступают «стигматы» армянства. Но безошибочно узнавая и прозревая в его произведениях себя, свои корни и национальное мироощущение, мы одновременно чувствуем отсутствие местечковости, пресловутого «квасного патриотизма», ощущаем широту и разомкнутость айвазяновского мира, тем более что сам писатель не случайно выводил в заглавия своих произведений такие слова, как эсперанто и аджапсандал, и отмечал, что «мир не имеет дверей, небо не имеет дверей». И все-таки одновременно Агаси Семенович признавался в одном из интервью: «Я в общем-то гражданин мира. Люблю и Рим, и Париж, архитектуру самую разную, литературу. Особенно русскую литературу и европейскую.<…> Я даже думаю: вот умру, и единственное желание у меня будет — увидеть, что строится в Ереване. Такие прекрасные города построены, все, что душе угодно, там есть. Но я хочу, чтобы все это было в Ереване. Необъяснимо».
Одна из наиболее известных повестей Айвазяна как раз об этом. В его «Американском аджапсандале» смешались чуть ли не все племена и народы. И парадоксальность этого смешения, разумеется, не в том, что действие повести происходит в Соединенных Штатах – это как раз вполне жизненная ситуация, а в том, что Айвазян, на первый взгляд, трансформировал столь характерную для литературы ХХ, а теперь уже и XXI веков экзистенциальную метафору поиска человеком своего утраченного дома, в самый что ни на есть буквализм: он описывает всемирный конгресс бездомных. Он пишет: «Был пущен в ход весь сгусток достижений цивилизации, который Америка, словно гигантская губка, вобрала в себя изо всех континентов и эпох. А теперь еще и приняла в свои объятия беднейших мира сего. Индус и китаец, русский и француз, итальянец и чех, кореец и еврей, мексиканец и араб, японец и поляк… Теперь они составляли одну армию — низшее сословие человечества, люди дна всего мира, подонки в полученных здесь одинаковых костюмах, которые теперь выглядели как униформа…».
И все-таки даже такая овеществленная метафора отсылает нас к временам то ли Вавилонского столпотворения, то ли Ноева ковчега, а то и к архетипу лабиринта. Бездомность, неукорененность в мире, одиночество и тоска объединяют французских клошаров, англосаксонских homeless-ов, русских бомжей, армянского тнанка и других. Сама ситуация бездомности как бы подразумевает и некий космополитизм, анациональность, даже имя протагониста – армянского бездомного Китая Катариняна – настраивает на подобный лад, характерна и сцена, когда бездомные и потерянные турок и армянин пытаются держаться вместе.
Но Айвазяном угадана и парадоксальность всеобщего братания париев. Даже в этом гротескном аджапсандале, в своеобразном братстве бомжей, бездомный каждой национальности бездомен по-своему. И это очевидно не только по разноязыким выступлениям бездомных или их апологии своего образа жизни. Но и по высвечивающимся в глазах клошара Жана цветам французского триколора: «– Жан! Бездомье везде бездомье, какая разница, в какой части мира ты находишься. – И тут глаза Жана обрели цвет: сначала возникла синяя полоса, потом красная, белая. Я догадался: это французский флаг. И уже знал, что он мне скажет. – Жан сказал: – Нет, я бездомный в Париже… Чувствуешь разницу?»
Разницу чувствует и сам герой, хотя и искренне стремится избежать этого чувства: «Я ведь мечтаю о свободе, а от армян, вижу, свободы нет! Быть в плену своего происхождения — грустная вещь». Он искренне хочет «бежать отовсюду — из Америки, из России, из себя самого, бежать из этого мира». Но в том-то и дело, что для Айвазяна это не плен, а то самое богоданное нутро, которое не переделать, и бегство от своего нутра, своих «дремучих, замшелых инстинктов» невозможно.
Сколько бы ни представлялся герой Китаем, мы с первых страниц знаем, что настоящий Китай остался в Ереване (извините за каламбур) и понимаем, что космополитичное имя главного героя – фикция. Но дело даже не в имени. Для лже-Китая все соотносится и соизмеряется именно той с «армянской системой координат», о которой мы уже говорили. Герой сравнивает шею встреченного американца с колоннами Гарни, говоря о приглянувшейся женщине, называет ее «хомлеска-пери», описывая чудовищно грязные ноги армянского бомжа, замечает меж его пальцев «четырехтысячелетнюю грязь всей нации». Для него в Калифорнии холодно, как на Кавказе, тамошние горы напоминают горы Гарни, на старом полотнище киноэкрана вдруг проступают старые кривые улочки Еревана или лица друзей отца и т.д., и т.п. – примеры можно множить и множить. И если бездомный, нищий и отверженный тнанк в Америке и мечтает о счастье, то географические координаты этого воображаемого счастья однозначны: «И когда я представлял эллинку в простом сельском доме в тонких чулках, с чистыми пятками, окруженную малыми детьми, то у меня просто ехала крыша. Кусочек мещанского счастья, Боже ты мой, комочек глупой примитивной жизни, с ее ссорами, семейными сценами и невзгодами, и все это у меня дома, в моей стране, в моей несчастной стране!»
Тоска по Армении – отвергаемая, сознательно не принимаемая, но от этого не менее острая, нарастает в герое, принимая осязаемую форму национального запаха: «Представляете, какой аромат бездомного я сейчас испускаю! Но если меня как следует вымыть, приодеть и хорошенько накормить, то, клянусь самим собой, я буду иметь запах настоящего армянина! Недаром же мои ноздри до сих пор помнят родной запах нашего дома, запах моей матери, запах отца…» Однако осознание своего несоответствия национальным ценностям и даже стереотипам, подавляемое чувство своей оторванности от земли, где похоронены его родители, приводит протагониста к нервному срыву: «я вдруг ни с того, ни с сего начинаю кричать. На кого и зачем — не пойму. Мчусь по улице и кричу, кричу… Швыряю армянские слова налево и направо, вверх и вниз… смысла не понимаю сам».
И если смысл и обретается, то опять по-айвазяновски парадоксальный и архетипический – герой и его возлюбленная пытаются вплавь достичь земли обетованной: «Эллинка рядом со мной. И мы плывем к горизонту, туда, где, я точно знаю, должен быть берег. Впереди Армения и Греция. Подождите немного, и я достигну берегов… А когда дойду до Армении, то очень много поразительных подробностей сообщу об Америке и о нашей жизни на земле…».
Айвазян действительно умеет сообщать поразительные подробности, и очень по-своему прозревая суть вещей, не сужает мир до национальных границ, а расширяет национальное до мирового, тем более что по его убеждению, «в каждом человеке сидит армянин… Они рассредоточены и скрыты во всем человечестве и продолжают скрываться…» И приобщение к его творчеству позволяет нам открыть в себе представителей всего человечества, а в человечестве – все тех же извечных армян.
Меликсетян Лилит Суреновна,
к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой русской и мировой литературы РАУ