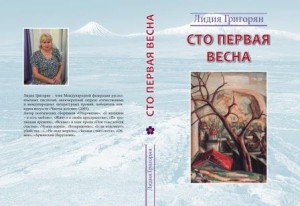ГЕНОЦИД АРМЯН
«Наша среда» продолжает публикацию книги Лидии Григорян «Сто первая весна», посвящённой столетию Геноцида армян – величайшего преступления XX века против человечества, совершённого в османской Турции. Авторы историй и эссе – жители Нижнего Новгорода – друзья армянского народа и армяне-нижегородцы, являющиеся прямыми и косвенными потомками армян, прошедших ад Геноцида. Среди авторов – представители всех слоев населения, люди разного возраста, разных профессий и рангов. В итоге из разных по содержанию, но единых по тематике историй получилась целостная картина прожитых нацией ста лет – века парадоксов и взросления, века, приведшего нас к сто первой весне.
Благодарим автора за предоставленную возможность публикации книги.
ПРАВО НА ПАМЯТЬ
Нарине САРДАРЯН,
пенсионерка, 71 год
О прошлых бедах, особенно о Геноциде, моя мама Нора Атамян не любила говорить вслух. Её боль и переживания были загнаны глубоко в сердце. Она не раз говорила, что её прошлое мчится среди призраков и пусть оно канет в бездну, чтобы никогда не повториться. Но всё же она признавала: если разделить её жизнь на этапы, самое счастливое время жизни – это её детство. Мамино детство прошло в Западной Армении с родителями и старшей сестрой в большом красивом доме в городе Трапезунде, что на берегу Чёрного моря. Её отец был зажиточным коммерсантом. Он занимался выращиванием табака, выпуском турецких сигарет, а ещё на первом этаже дома, в котором проживала вся семья, находился продовольственный магазин.
Моя мама прикрывала глаза и говорила:
– До сих пор чувствую запах табака, выращенного отцом. Разве сейчас табак выращивают! Сущий сорняк. А вот тогда за табаком и сигаретами отца приплывали даже из Одессы.
Я была младшенькой, – рассказывала мама, – и отец всюду меня брал с собой. Он очень мечтал о сыне, и моя мама Зофия, не рожавшая долго по состоянию здоровья, рискнула забеременеть, но родилась я. Несмотря на то что родилась дочь, отец никогда больше не говорил о сыне и очень любил нас: меня и Варсик.
Мамин отец, Тигран Атамян, являлся членом городского совета Трапезунда. Весь город знал его. Норе очень нравилось гулять с отцом. Она видела, с каким уважением здоровались прохожие разных наций, называя отца на западный манер – Тикран-паша. Отец владел многими языками: и армянским, и турецким, и курдским; временами даже заговаривал на греческом. Этот язык он знал благодаря своей жене: она была гречанкой. В Трапезунде было много греков, ведь когда-то этот город являлся столицей греческой Трапезундской империи. А как хорошо (по крайней мере, им так казалось) они дружили с соседями-турками! Мама даже помнила, как звали собаку соседей. В сезон все соседи – женщины-турчанки – работали у отца. Он им хорошо платил, вдвое больше, чем другим, и они его боготворили. В 1915-м маме шёл только двенадцатый год, но, как она говорила, пришлось повзрослеть за один день…
На этом мама замолкала и вытирала мокрые глаза. Моего первого сына она попросила назвать Тиграном, в честь своего отца. Муж мой не отказал ей, он её очень уважал. Мама жила с нами, хотя у меня в Армении жили тогда два брата. Мы с ней хорошо понимали друг друга. Укачивая Тигранчика, она часто задумывалась, а потом вдруг вздыхала и говорила: «Вах, айрик джан, им арслан айрик»[1]. В такие моменты я понимала, что она в очередной раз побывала в прошлом. Мне было жалко её, и я однажды сказала, мол, зачем так мучить себя и заново переживать смерть родных. Ведь это было давно. Она грустно посмотрела на меня и, горестно покачав головой, неожиданно поделилась:
– Столько лет прошло, а мерзкое ощущение, что все мы были обречёнными жертвами, не проходит. Закрою глаза – и всё повторяется. Не понимаю, по какому праву можно было так жестоко разрушать человеческие жизни, уничтожать, терзать. Бог мой, как ты это допустил?!
– Мама, – просила я, – пожалей себя, постарайся отойти от всего, забыть.
– Что? – смотрела она на меня осуждающе. – Как забыть? Как ты можешь так говорить, Нара-джан? Это ведь не одна жизнь отнята! У нас отняли всё. Дом, семью, родину, чистое небо, забрали честь и достоинство, превратив в животных, а ты говоришь – забудь! Кем я стану после этого, а? Ну, скажи! Тем животным, в кого меня хотели превратить?! У нас лишь память осталась, а ты и её хочешь затмить, разве я не имею право на память? – Она расплакалась. Я впервые видела маму такой расстроенной и обиженной на меня. Потом оказалось, что этот день был днём рождения моего деда Тиграна. Стараясь успокоить её, я стала просить у неё прощения.
– Вот видишь, ты словом обидела и прощения просишь, а они нас живыми закапывали, детей у всех на глазах насиловали, новорождённых на мечи насаживали. Эти крики, эти тела матерей, падающих в объятия смерти после кошмарных картин… Как можно с таким грузом греха жить и не каяться?!
Я побледнела после её слов, она впервые говорила так… открыто. Тут проснулся Тигранчик, и выражение лица мамы изменилось.
– Иди ко мне, мой арслан[2], иди, моя радость. Я знаю, ты будешь таким же справедливым и храбрым, как твой прадед.
Несколько дней я не могла успокоиться. Историю армянского народа я знала по учебникам. Я знала, что мама прошла через Геноцид, но в нашей семье об этом говорилось в общих словах, больше опосредованно, без лишних эмоций и фактов. Однажды, когда муж взял малыша и ушёл гулять в парк, я попросила маму рассказать, что она помнит из своего прошлого:
– Мне кажется, нам надо поговорить. Расскажи мне всё, я ведь твоя дочь, да и потом, я давно взрослая.
На самом деле я хотела, чтобы мама освободилась от скорби и траура, которые она носила столько лет. Я никогда не думала, что от этого нельзя освободиться, как и не думала, что этой болью можно заразиться.
– Что я помню? – словно спрашивая саму себя, повторила мама. – Помню, что в начале того чёрного года, когда пошли слухи, что турки уничтожили всех юношей, призванных на службу в турецкую армию, отец, побледнев, перекрестился и воскликнул: «Горе вам, армянские матери! Юбки наденьте, армянские отцы!» Он очень переживал, потому что сын его брата был призван в армию месяц назад. Помню, как он объявил вдруг, что мы должны уехать. На другой день подруга моей сестры, соседка Эдже, сказала, что её родители очень переживают за нас, потому что всех армян хотят сделать правоверными, а кто откажется – того убьют. А ещё она сказала, что её отец слышал в центре, будто скоро армянской нации не будет, останутся женщины и дети, которые станут турками. Мы с сестрой были напуганы. Тотчас передали эти слова родителям. В тот же вечер, а это был конец мая, мы решили уплыть из Трапезунда. Но папу вызвали в совет и дали задание: сделать перепись армян. Когда он спросил, зачем это делать, ему сказали, что переписи греков, курдов и турок уже ведутся, что тут странного? Так прошло много дней, а потом пришёл приказ о депортации. Помню, как плакала мама, не зная, что брать в дорогу и как оставлять нажитое добро. Потом пришёл отец и сказал, что всех армянских мужчин арестовали, а его Умут-ага насильно заставил уйти из центра города спасать семью. Он даже предложил ему укрытие в своём доме, но отец отказался. Он до конца упрямо твердил, что не преступник, чтобы прятаться. Ночью мы хотели ускользнуть из города, но везде горели костры, а турки бегали по нашему кварталу и выкрикивали угрозы. Потом стали стучать в наши двери. До этого мама заставила нас надеть жилеты, в которые она вшила золотые монеты… Помню, как нас вытолкали из дома, но отец крикнул зычным голосом, чтобы к женщинам не притрагивались, мол сами пойдём. К нашему удивлению, его послушались, но только на некоторое время. Людей, выгнанных из своих домов, на улице оказалось много – конца толпы не видать. Нас загнали в казармы, похожие на тюрьму, потому что везде были решётки и замки. Люди стояли, сесть не было возможности. Мужчин было мало. В основном плачущие дети и женщины, пытающиеся их успокоить. Под утро открылись ворота, и вошли турецкие жандармы и несколько солдат. Увидев наши измученные лица, они стали ухмыляться, словно победили вооруженное до зубов войско. Нацелившись на толпу, они начали стрелять нам под ноги, кто-то палил в воздух. Проснувшиеся дети испугано заплакали. Все начали роптать. Отец не мог вынести напряжения, он не мог видеть, как над его семьей издеваются, и начал кричать. Один из жандармов, по-моему, сержант, угрюмо посматривая на нас, отдал приказ опустить винтовки. Они с отцом оказались знакомы. Отец крикнул:
– Ахмед, подонок, посмотри мне в глаза! Не ты ли ещё неделю назад просил меня подождать с долгом, который я списал тебе просто так? Что мы вам сделали? Почему вы мучаете наших детей, у вас ведь тоже есть дети!
То, что потом случилось, было жутким кошмаром. Один из этих извергов подошёл к решётке и стал мочиться на людей, метясь струёй мочи в отца.
– Выпусти меня отсюда, я тебе башку снесу, мразь, – прорычал отец.
И тут началось. Турки открыли дверцу. Отец, а за ним другие мужчины, вырвавшись из клетки, попытались наброситься на жандармов, но через пару шагов падали от выстрелов. Не дай Бог никому пережить такого ужаса. Турки стали без разбора всех избивать. Но даже эти удары не могли усмирить раненого отца. От его криков стыла кровь. Ему доставалось больше всех. Казалось, он не чувствовал боли в простреленной руке: отбиваясь от ударов здоровой рукой, он кричал:
– Ахмед, подонок, объясни, а потом убей!
Это был конец. Необъяснимый, обидный и унизительный конец. Моя душа разрывалась на части не от физической боли и не от унижений, а от страданий отца: страданий от того, что он не может защитить свою семью, своих детей. Увидев, как один из солдат схватил молодую женщину и, стаскивая с неё юбку, потащил в угол, я подумала, что лучше б отца убили, чтобы он не видел нашего позора и мучений. От испуга я упала на колени, закрыв лицо руками. Через некоторое время почувствовала, что удары прекратились. В полнейшей тишине, словно во сне, я увидела отца: раскинув руки, он лежал в пыли, прикрыв собой мою старшую сестру. Сначала я подумала, что и она мертва, но нет, мама, плача, перевернула отца, освобождая Варсик, та была невредима. Один из солдат ударил маму в лицо и схватил за руку мою семнадцатилетнюю сестру, но тут, к моему изумлению, Ахмед оттолкнул жандарма, бросив сквозь зубы: «Отстань от них!» Показав нам рукой, чтоб мы присоединились к загнанной в угол толпе женщин и детей, он повернулся к нам спиной.
В отличие от наших полных ужаса глаз глаза турок излучали радость. Довольные и опьянённые своим всесилием и властью, они, наверное, ещё хотели попользоваться всем этим, но лицо Ахмеда, стоящего к нам спиной, видимо, выражало запрет. Двое жандармов всё же рискнули пойти наперекор Ахмеду, но он приказал всем отойти. Вскоре нас построили и выгнали на дорогу из города. Людей охватило безразличие ко всему окружающему. Видно, смерть мужей и отцов выбила их из колеи. Дорога была трудной. Дети хныкали, цепляясь за матерей. У одной женщины, тащившей двух малышей – одного привязанного к спине, а второго на руках, – вдруг начались судороги в ногах. Едва успев передать детей идущим рядом, она упала. Люди боялись помочь ей и вызвать тем гнев конвоиров, они продолжали идти. Маме моей достался трёхлетний малыш, он всё оглядывался назад и судорожно всхлипывал. «Молчи, детка, молчи», – просила его мама, потом вытащила из кармана широкой юбки кусок хлеба и дала малышу. Тот, сопя, стал есть хлеб. Второго малыша (ему было около годика) подхватила высокая крупная женщина. Позади колонны раздались выстрелы, и мы поняли, что матери этих двух малышей уже нет в живых. Мама, прижав к себе ребёнка, заплакала.
За день люди уставали так, что невозможно было согнуть ноги, чтобы сесть, приходилось валиться на бок. Турки снимали поклажу с обоза, который шёл позади толпы, и бросали нам мешок с едой. Это были куски чёрствого хлеба, сушеный горох или же перловка. Иногда пинками, криками, оскорблениями и даже выстрелами поднимали ночью, заставляя идти. Ночью кричали курды, которые оравами шли за колонной, но, боясь Ахмеда, который пригрозил им винтовкой, близко не подходили. На этой почве у Ахмеда с другими солдатами вышла ссора, ко всему прочему, он после первого дня запретил насиловать женщин, и это тоже вызвало недовольство. Мы все понимали по-турецки и слышали, как Ахмед пригрозил солдатам. Он сказал: «Был приказ депортировать, вот и депортируйте!» Нам показалось, что солдаты что-то затевают против Ахмеда. Однажды мы услышали, как ругается Ахмед – сбежали два жандарма. Но вскоре, дня через три, они появились с несколькими всадниками. Ахмед побледнел, и мы поняли почему. Эти двое сбежали, чтобы пожаловаться властям на Ахмеда, мол, тот на стороне армян. Вскоре на наших глазах Ахмеда расстреляли. Одного из доносчиков поставили главным. Сердце холодело от страшных предчувствий.
– Теперь я знаю, что чувствует грешник в аду, – говорила мама. – Это одиночество и безысходность. Но за какие грехи нас без суда отправили в ад – обманули, растерзали и унизили? Единственный турок, который пытался как-то нас защитить от насилия, был убит своими же солдатами. Я вспомнила наших соседей, свою школьную подругу. Нет, они не могли бы относиться к нам так же, как эти изверги. Разве можно так мастерски носить маску? Прав был мой отец, когда задавал вопрос – за что? До этого он не раз говорил, что армяне для Турции намного полезнее и нужней, чем сами турки, и они не такие дураки, чтобы лишиться своих доходов, убив нас. Но как оказалось, он плохо знал турок.
Казалось, всё рушилось вокруг, люди потеряли контроль над собой. Это был тот момент, когда каждый думал лишь о себе и о своих детях. На поверхность выходила вся сущность души человека: и плохое, и хорошее. Женщины-беженцы могли перегрызть друг другу глотки из-за куска хлеба. Вскоре маме стало плохо. Она попросила Варсик не бросать Арама (так звали мальчика, у которого убили мать). Через два дня мамы не стало, она умерла от истощения, подкармливая своим пайком Арама и нас с сестрой. Варсик с Арамом не расставалась. Она или несла, или же вела ребёнка за руку. Но после того как убили Ахмеда, солдаты издевались над нами как хотели. Теперь курды покупали нас и воровали. Кто противился, убивали на месте. Мы с Варсик старались всё время быть в середине колонны. Но однажды ночью Варсик и Арама выкрали, как и многих женщин. Так я осталась одна.
Со мной рядом шла высокая пожилая женщина, у которой убили двух сыновей, невесток и внуков. Это была та самая женщина, у которой на руках остался годовалый ребёнок нашей погибшей спутницы, мы с ней назвали его Арменом. Вместе мы дошли до Алеппо. Нас осталось около сотни, а может, меньше. Погибло много… очень много. Удивительно, но ребёнок остался жив. Ребекка, так звали мою спутницу, взяла на себя заботу о нас с Арменом. Чтобы избежать лагеря для беженцев, мы обошли посты и украдкой вошли в город. Мы в Алеппо не жили, мы там нищенствовали. Однажды Ребекка узнала, что группа беженцев хочет за деньги перебраться в Сочи по Чёрному морю, но у нее не было денег, чтобы заплатить за переправу. Тут я ей и сказала, что в мою грязную и изношенную жилетку вшиты монеты. Она плакала от радости. Так мы спаслись и попали в Сочи, откуда вскоре добрались до Армении.
Мама замолчала и вся ушла в себя, я её больше не расспрашивала. Однажды она сказала мне, что ей теперь стало легче. «Я всё боялась рассказывать, – сказала она. – Не знаю, что меня удерживало. Видимо, стыд за то, что с нами так поступили. Как наши армянские мужчины не могли такого предвидеть и защитить народ, я просто не понимаю».
Прошли годы, нет уже в живых мамы, но есть её история. Я давно хотела рассказать ее своим детям, но не знала как. Видимо, моё желание было велико, ибо пришло время поведать о судьбе моих родных со страниц книги. Я молю Бога, чтобы книга была издана, потому что наши дети должны знать правду о своих предках. Они должны знать это не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы восторжествовала правда, которая живёт в памяти народа.
[1] Ах, отец, мой лев-отец (арм.).
[2] Арслан (турецк.) – лев.