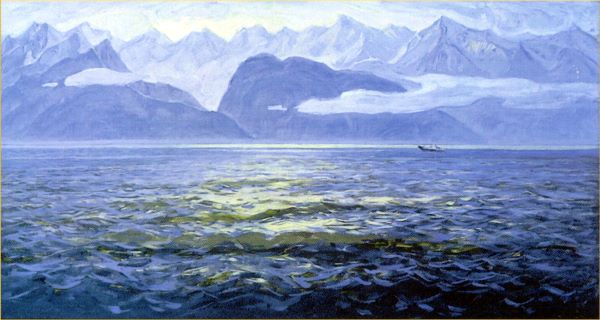
«Наша Среда online» — От картин коммунального послевоенного детства — через погружение в древность земли и любви — к объёмной фреске или, скорее, многофигурному кинофильму в стихах и в прозе, где изображена жизнь сибирячки-сезонницы, ставшей символом великого странствия по свету, — вот диапазон новой книги Елены Крюковой «Зеркало».
Эта классическая траектория: детство, страсть, путешествие — есть необходимое условие всякой человеческой жизни. «Коммуналка» — своеобразная саунд-драма, где коммунальные Обитатели, как бы ни ссорились, все равно понимают и любят друг друга; а история портнихи Саньки и ресторанного пианиста Стёпки заставляет вспомнить лучшие страницы В. Шукшина и Ю. Казакова.
В «Овидиевой тетради», апологии любви, знаменитая Овидиева рукопись «Ars amores», с её утончённым эротизмом и живым жаром непобедимой природы, став источником вдохновения для автора, пространственно расширяется до границ современного восприятия культуры; так причудливо сплетаются музыка античности и нынешний день.
И «Меч Гэсэра», занесённый и сверкающий над стариной и над будущим, на деле — траектория большого пути простой сибирской девчонки Маринки, яркая лыжня, бесстрашно проложенная ею по суровому зимнему миру. И зеркало сердца поэта столь же смело отражает быт и бытие.
СТРАНСТВИЕ КАК ГЕНОТИП КУЛЬТУРЫ
(о книге Елены Крюковой «Меч Гэсэра»)
Нина ЛИПАТОВА
Композиция «Меч Гэсэра» Елены Крюковой была впервые опубликована в журнале «День и Ночь» (№ 4 2011), и вот сейчас этот текст выходит в авторской книге.
Текст одновременно и сложный, и простой. Сложный потому, что образная и стилистическая палитра Крюковой весьма богата — автор не жалеет красок на изображение подробностей и иной раз буквально «топит» читателя в богатстве ассоциаций. Простой — потому, что сюжетно эта вещь, написанная стихом и прозой, весьма проста и прозрачна — это жизнь сибирской разнорабочей Маринки («Маринки-сардинки», как ее дразнят и прозывают ее минутные знакомцы), точнее, житие, подобно древнему апокрифическому житию или «хождению» (и в книге Маринка тоже постоянно находится в дороге, в пути) — так символ-знак времени напрямую отождествлен здесь со странствием.
Дорога равна времени, и время равно душе — так замыкается круг макро- и микрокосма. Дома у сезонницы Маринки нет и не было — она выросла в детдоме, работала где придется; сибирский город («Град-Пряник», в котором узнаются приметы Иркутска) на время ее детства стал ее приютом, а потом она пошла куда глаза глядят, принимая свою суровую судьбу как она есть. Маринка одновременно и наивна, и мудра. Ее наивность граничит с юродством, а мудрость — со стихиями, с силами самой природы; она показана как донельзя природный человек, как зверь и птица, она так же жадно любит жизнь и так же не боится смерти (ибо не знает, что она такое).
Само повествование напоминает огромную, цветную храмовую мозаику, подобную византийским мозаикам; на этой многофигурной мозаике Маринка покидает Сибирь, устремляется на Запад, доходит до Столицы — и перед нами в полный рост встает Москва Военная, та, которую мы видели в годы трагических переворотов, а может быть, еще увидим — трагедия всегда подстерегает за углом:
…Это все перевернулось,
В Красный Узел затянулось:
Танки и броневики,
Мертвое кольцо руки.
Флаги голые струятся.
Люди в ватниках садятся
У кострища песни петь,
В сажу Космоса глядеть.
В Москве Маринка работает, по обыкновению, где попало (она — то русалка в бассейне-аквариуме рыбного магазина, то судомойка, то дворничиха), и ее единственная отрада — письма в Сибирь нищему художнику, «малеванцу», как она его зовет. Но судьба слагает неожиданный узор, и вот уже Маринку подхватывает под локоть заморский человек, и, как явствует из текста, богатый — и увозит ее за океан. Здесь мы сталкиваемся с древним, почти архетипическим и даже апокрифическим мотивом ЧУДА — страдания должны быть вознаграждены, и вот они вознаграждаются.
Казалось бы, счастье найдено? Не тут-то было. У Крюковой в этой почти фольклорной симфонии пересиливает трагедийная нота, и не только она одна. Маринка на чужбине — один из самых сильных психологических портретов композиции:
Мне холодно. Свернусь червем в бочонке — ледяные доски.
В слепящей мгле — ползу кротом. Ношу чужой тоски обноски.
Сабвей да маркет — вот мой дом. Чужой язык — на слэнге крою.
Плыву в неонах — кораблем. В ночи Манхэттэна — Луною.
Я, грязная!.. — сезонь и шваль, я, лупоглазая совища,
Измерившая близь и даль тесово-голым телом нищим,
Глодавшая кусок в дыму на станции, в мазутной фреске, —
Я — здесь?!..
Уж лучше бы в тюрьму. В ту камеру, где пуля — резко —
Из круглой черной дырки — в грудь.
Ору я песню! “Крэйзи”, — цедят.
Я выживу. Я как-нибудь. А мне во шрамы — роскошь целят…
И уже понятно, что произойдет. Траектория великого пути замкнется: Маринка вернется на родину.
И эта родина, как не раз бывало со всеми возвращавшимися, убьет ее.
Тут беспощадный реализм этой книги, прежде чем вернуться на круги своя — к изначальной трагедии и привычной суровости, — на миг обращается в легенду, если не в сказку. Маринка пешком (как классическая паломница) идет к Байкалу, чтобы омыть лицо и руки в его святой для нее воде, разводит костер на его берегу, вспоминая былое. На байкальской скале она видит древний петроглиф, изображающий меч, и понимает: здесь меч хранится, и она должна его добыть.
Зачем? Такой вопрос, читая легенду, не задают. Затем, чтобы стать сильнее; чтобы стереть одним сказочным жестом мглу тысячелетий; чтобы этим сверкающим мечом, как то и требуется в легендах, сражаться со злом (с которым Маринка, надо заметить, до сих пор справлялась без меча). Ей удается совершить подвиг добычи, но именно здесь, когда меч уже у нее в руках, и может у нее, сильной-могучей, начаться новая, волшебно-счастливая жизнь, ее и настигает гибель — в лице трех бандитов-попутчиков, пассажиров поезда, где она едет (снова едет — неизвестно куда). Маринка сражается с бандитами в тамбуре и уже побеждает, как вдруг некая черная фигура (читай — сам дьявол) выбивает оружие у нее из рук, и меч со звоном летит вон из вагона.
Маринка зарезана тремя ножами. Она погибла. И появление ее «малеванца», что на морозе сидит за мольбертом, стоящим на снегу близ железной дороги, и застывающими на лютом холоде красками пишет все, что видит вокруг, вполне закономерно. Ее далекий случайный возлюбленный, не принимавший никакого участия в ее огромной, обширной жизни, оказывается ее лучшим летописцем. Летописцем без слов. В этом случае автор, изображая события и положения отнюдь не красками, а словами, уступает место стихов прозе, и ее плавное, почти речное течение успокаивает нас: все, что было, всего лишь сон о жизни, а жизнь — вот она: художник за мольбертом посреди снегов, и он просто рисует все, что видит.
Один из финальных поэтических фрагментов «Меча Гэсэра» имитирует, а потом и вольно интерпретирует старинную народную песню «Исходила младешенька все луга и болота, а и все сенные покосы» (эта песня, кстати, была использована Модестом Мусоргским в опере «Хованщина»). Этим финальным фольклорным штрихом ярко подчеркивается принадлежность «Маринки-сардинки» к миру народа, и народность в этом контексте не лаково-принаряженная, а глубинная, исконная:
…Улетала младешенька
За моря-океаны,
За моря-океаны,
За снега и бураны…
Там поела младешенька
С золоченых подносов —
Снова кровушку-слезы,
Ой ли, кровушку-слезы…
Излечила младешенька
От хворобы да горя,
От великого горя —
Непомерное море…
Хлеб да рыбу — голодным,
Мех да пламя — холодным, —
Все давала младешенька,
Отдарила свободным…
Каково же резюме? Что же в результате перед нами: попытка современного жития, попытка легенды, попытка совмещения лирики и эпоса? Видимо, и то, и другое, и третье. В оригинальности этой вещи у меня нет сомнений. «Меч Гэсэра» Крюковой ни на что не похож, и в этом его слабость и его сила. Слабость — потому, что будут искать в литературе аналоги и материал для сравнений, и не найдут; сила — в том, что этот текст, сочетающий в себе живописность, уже не раз отмеченную рядом критиков, и музыкальность — чисто изобразительные моменты, — на деле обращен к поиску онтологических, изначальных вещей, к поиску фундамента и архетипа, который и есть поиск истины.
МЕЧ ГЭСЭРА
Картины немыслимой жизни женщины: в стихах, прозе и песнях
Посвящается меднозеленому Будде
Иволгинского Дацана
— Да истинно говорю тебе, дочка: они очень, очень дружили — Исса и Будда; Исса как пришел в Тибет, так у него и учился, а было Гаутаме лет тогда… ох, и не упомню, сколько!.. да хоть бы и пятьсот, раньше люди помногу жили, да. Исса очень любил Будду, да… Ходил и проповедовал по Тибету, по Северной Индии… да и в Китае бывал… только Он учил, что Веды — неправильные. Неправильные, и все тут! А сам лечил, лечил их всех, людей-то азийских… на ихних карбасах по Ганге плавал… и светился весь. Дай закурю, дочка!.. такая Его жизнь была сильная, что весь дрожу, когда о Нем говорю…
Раскосое лицо седого рыбака наклоняется к трубке. Вот затлел оранжевый, карий огонь. Выхватил из густого осеннего мрака бровь, щеку, морщины лба, серьгу в ухе. Озеро накатывало на каменистый колючий берег ледяные волны с кудрявыми закрутами.
— А серьга-то… зачем?..
— А, баловство. Это я на флоте проколол — пиратом стать хотел, а тут нас взаправду торпедировали… Лежи, лежи, рыбочка!.. Не прыгай… Серебряная, краля…
Ногой потрогал шевелящуюся рыбью кипень на дне старой плоскодонки. Остро, дымя из трубки, глянул на женщину.
— У нас с тобой сегодня чудесный лов рыбы! Так Исса бы сказал.
И женщина вперила в замолчавшего рыбака горящие тьмой глаза свои. Запахнулась, защищаясь от резкого култука, в прожженный на локтях ватник. Рядом с лодкой, прямо на галечнике, горел, дико мотаясь на ветру, костер, сложенный из сухих кедровых веток и стланика. Выловленная рыба подпрыгивала на дне лодки — она хотела жить. Огонь пытался лизнуть устало брошенные на колени руки женщины — тяжелые, набухшие переплетеньями вен, в шрамах, в пятнах смолы и царапинах. Над головой женщины, высоко над озером и тайгою, всходила круглая широкоскулая Луна, молитвенно светясь медовым, топленым нежным светом. Луна стояла над затылком сидящей у костра — наподобье нимба. Старик оторвал трубку ото рта, сурово наклонился и обжег жестким поцелуем бессильную женскую руку.
— Да благословит тебя Исса, Марина.
Рука отдернулась. Огонь, мимо лодки с омулем и озерного холода, вскинулся ввысь.
— За что, дедуня?.. — В притворно-спокойном низком голосе закипели слезы. — Ничем не вышла, ни кожей ни рожей, ничего не умею, кроме как робить до полусмерти… вот еще лунные ночи люблю, с детства это…
Рыбак тихо положил прокуренную ладонь на ее рот.
— Замолчи. За работу твою каторжную, ежечасную, благословит. За то, что ты на грешной Земле, здесь — Лунная дочка. Серьга моя мне все сказала. Нашептала про тебя. А еще нашептала, что я должен бы тебя сберечь от тьмы, да не сберегу. Время нас развело. А молодым уж не стану.
— Подумаешь, молодость! Велика отрава, валит с ног…
— Когда туда будем уходить, — старик слепо и медленно указал в зенит, где плыли навстречу друг другу ласковые омули звезд и планет, — к твоей матушке Луне, только ее одну, молодость, и вспомним.
Сидящая у костра раздобыла за пазухой мокрую мятую пачку папирос, наклонясь, прикурила от рыбацкой трубки, и в темной ночи распатланных волос омулево сверкнула седая прядь. Луна разгоралась все мощнее — ночь набирала силу. Кедрач гудел густым гулом. И, затягиваясь глубоко и опьяняюще, будто глотая водку на морозе, до слез, чтобы дымом — те слезы скрыть, женщина в ватнике шептала, бормотала сбивчиво, так, чтобы рыбак не слышал из-за гуденья култука, из-за треска сучьев в костре: “Да как же узнал ты, милый ты человек, что не земная я баба, что я инопланетянка, что со звезд я, со звезд, с Луны я родимой, а тут, на Земле, поработаю — денег дадут, есть-пить можно…”
И, помня о благословенье Иссы, низко и благодарно наклонила она голову над костром.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
…В грязном ватнике, в тех рукавицах холщовых,
Что истерты на сгибах до дыр, —
Я собой заплатила за мир мой грошовый,
Пьяный, яркий, пылающий мир.
Я работой молилась. Работой сражалась.
Пот рабочий ложбину проел
Меж лопаток. А что там усталость?.. —
что жалость?.. —
Это — слабым, кто жить не сумел.
Кто не сдюжил гужи, хоть за них зацепился!
Кто любить меня взялся — без сил!
В грязном ватнике — вот я. В меня ты влюбился?!
Не таковский пощады просил!
Солнце бьет меж ресниц. Солнце пальцы ломает.
На морозе — сугробами грудь
Воздымается. Солнце меня обнимает.
А покинет — одна как-нибудь.
Доползу. Докричусь. Доцарапаюсь когтем.
Доишачу я смену — назло
Бригадиру. И выплачусь в рваную кофту,
Коли грянет совсем тяжело.
А лимоном вся выжата, глухонемая,
Дотащусь до каптерки родной
Да и лягу, мазутных сапог не снимая,
Пред окном, позлащенным Луной, —
Побегут по спине золотые мурашки,
И уставлюсь в лик круглый ея:
О Луна золотая, ты тоже — бродяжка,
Ты — сезонница, шельма, как я!
Так и смотрим друг дружке в раскосые лица.
Так и плачем, две бабы, навзрыд.
О Луна, длиннокоска, ты тоже — блудница,
Прачка дышащих смрадом корыт!..
Дорогая!.. Отмоем, отбелим, отдраим
Этот мир, эту копоть и грязь…
А потом, перед смертью, помстится мне Раем
Тот подвал, где на свет родилась…
И Луна, усмехнувшись, вонзит в меня стрелы
Мора, глада, чумы и войны,
Чтоб Юродивой Неба я песню хрипела
Да с обратной ее стороны,
Чтоб жила я Пришелицей в грозном прибое,
В нищем, яростном море людском,
И за звездную мощь заплатила собою —
Обагренным любовью виском.
… — Купите бублики! За десять рубликов!.. Купите щипцы для волос, хорошие, подержанные, слегка сгоревшие, окалина вот, но это ничего, завьетесь как маркиза, серебряный крест моей прабабушки купите, она была родом из дома Романовых, да ее не расстреляли, она в Аргентину убежала. Купите чайник с горячим чаем, купите ежа живого, он в доме жить не может, купите и выпустите в лес, Бог вам это зачтет, век богаты будете!.. Купите вьетнамскую корзинку, в ней удобно носить котят. Купите бананы сушеные, всего двадцать центов, — можно и за рубли!..
— Облепиха, облепиха, ух, стакашек!.. оранжевая кровь… купи — солдатик!.. все девки тебя сразу полюбят…
— Кедровый орех, орех, мешки не дырявые!.. а, я чай, крепкие как я!.. Не гляди, мил друг, что у меня трех пальцев нет — еще колот я держу, слава тебе Господи!.. Это мне в крушенье пальцы-то оторвало, давно… Эх и вино было раньше — “Солнцедар” прозывалося!.. я его всегда принимал, если ранение болеть начинало. А что нынешние вина-те?.. — каво там!.. — говно, и больше ничего!..
— Банку сельдей иваси продаю. Даром возьми! На что мне она, руки тянет.
— Молоко, молоко замороженное, сливки, а вот круги молочка, а вот сливочки желтенькие, дамочка, бери кружок!.. домой придешь, в плиту сунешь — растопишь, пальчики оближешь, наши коровушки рыжия, сибирския, все сладкое от них, аж прямо сахар!.. возьми скорей, мне на автобус надоть поспеть, до Култука…
— Гаспажа, вот эта гранаты! Вот эта груша-зимник, нэт красивэй! Купи, гаспажа!.. — цвэт лица ярче чем от любовника будэт…
— Рыбка, рыбочка чебак!.. Рыбка, рыбочка чебак!.. Сушеный чебак, последний зуб сломаешь, дядя!..
— Деточка, меха, меха, меха!.. Мездра выделанная… еще сырые… жалко зверьков, да?!.. а колотун ударит, звезды с неба посыплются — каво носить будешь: будку собачью, да?!..
— Мед!.. Мед как масло — на хлеб мажь!.. Клюква, клюква, от всех скорбей!.. Калина!.. А вот лимончики, на вес золота, и сами золотые… а вот, наклонись поближе, под ларь, сюда, погляди — омуль тут у меня в ведре, богатство серебряное, пусть рыбнадзор к лешему шурует!.. а вот я пули на цепочках продаю, амулет на грудь, кто на груди пулю носит — от пули не погибнет, точно вам говорю, сам в них дырочки сверлил, сам цепочки вставлял… а это что у тебя за шрам на шее?!.. а это меня там пуля-то и зацепила, на Гиндукуше… санки, санки!.. валенки… ай, доченька, каво капустки не спробуешь из бочечки?.. справа ай слева, хошь с сахаром, хошь с уксусом — всему свой вкус!.. юные — они сильнее уксус любят… а картошечка с черемшой!.. картошечка!.. над ней аж пар стоит — только из дому приволокла, едва из печи… посыпала черемшой, перцем, луком жареным…
Марина шла по зимнему рынку.
Девка Маринка шла по зимнему рынку, и ноздри ее раздувались, и глаза ее смеялись. И дивно ей было все это, и родно и близко, и не купить было всего, даже если из Лены, Ангары и Витима все утопленное белогвардейское золото выловить и на рубли разменять. Снег морковкой хрустел под ногами, повизгивал, и вилась вокруг нее рыночная собака, пытаясь куснуть руку дающую, женскую. В надвинутом на брови платке, в ватнике, который, Господи, грел хорошо, — а из-под ватника — теплая грубая юбка, а из-под нее — обрезанные размахренные джинсы, заткнутые в траченные молью валенки, — она шла по рынку богиней и повелительницей его, и над ее головой, закутанной в платок, вставало легкое сияние. День гремел солнечный, ослепительный. По мохнатому яркосинему ковру неба плыли лубочные лебеди грудастых облаков. И далеко, далеко в сияющий Космос разносились быками мычащие, басовые колокола Крестовоздвиженской церкви, а машины фыркали дорогим бензином, и на морозе дым свивался в клубки.
Сезонница Маринка шла по рынку и вспоминала свое детство. Как в детстве, ей хотелось поесть горячей картошки с черемшой прямо с лотка. Урвать из ведра у обветренного дядьки соленого омуля. Погадать у низкорослой беззубой цыганки, с коричневыми щеками, с тяжелыми огромными, как золотые шины, серьгами. “Каво будет мне, бабушка?..” — “Путь, красавица”.
Она вспоминала, где и как она рождалась, а поскольку она была инопланетянкой, она была обязана вспомнить все — и до своего земного рождения. Но неподатливая память, напрягаясь, туманилась и пела иное. Да уж, время и место выбрала она без промаха, чтоб родиться здесь, затеплиться свечой.
— Девчонка, купи ягодок!..
Седая прядь вдоль щеки. Морщины у рта.
— Ой, не девчонка… ой-ей… тета, ну облепихи, чо ль, возьмитя…
Она расплатилась, подставила руки. Пацан сыпанул облепиху из стакана ей в пригоршню. Она ела желтую ягоду на морозе, под ярким Солнцем, и плакала от радости и горя — родиться здесь, жить и умереть здесь.
— Ты на сына моего похож, паря!..
— Так возьмитя меня в сыновья…
Слезы застывали на щеках иглами куржака. Она ела ягоду и вспоминала город — далеко отсюда, — исторгнувший ее на Божий свет.
ГРАД АРМАГЕДДОН
…Всей тяжестью. Всем молотом. Всем дном
Дворов и свалок. Станций. Площадей.
Всем небоскребом рухнувшим. Всем Днем —
О если б Судным! — меж чужих людей.
Всем слэнгом проклятущим. Языком,
Где запросто двунадесять сплелись.
Всем групповым насильем. И замком
Амбарным — на двери, где шавка — ввысь
Скулит так тонко!.. безнадежно так… —
Всем каменным, огнистым животом —
Обвалом, селем навалился мрак,
Сколькиконечным?.. — не сочтешь! — крестом.
Мне душно, лютый град Армагеддон.
Из твоего подвала — вон, на свет
Рождаясь, испускаем рыбий стон
В январский пляс над головой — планет.
Да, в метрике царапали: “Арма-
геддонский исполком и райсовет…”
Тех слов не знают. Им — сводить с ума
Грядущих, тех, кого в помине нет.
А я пацанка. Флажное шитье
Да галстучная кройка впопыхах.
С вокзальных башен брызнет воронье,
Когда иду со знаменем в руках.
Так сквозь асфальт — слеза зеленых трав.
Так из абортниц — мать: “Я сохраню!”
Средь серп-и-молот-краснозвездных слав —
Оставьте место Божьему огню…
Но давит Тьма. Сменили ярлыки,
А глыба катит, прижимает плоть.
Ни напряженьем молодой тоски,
Ни яростью ее не побороть.
Ни яростью, ни старостью, — а жить
Нам здесь! Да здесь и умирать!
На площади блаженный шепчет: “Пить”.
И фарисей — неслышно: “…твою мать”.
Нет жалости. В помине нет любви.
Нет умиранья. Воскрешенья — нет.
Ну что же, град Армагеддон, — живи!
В пустыне неба твой горящий след.
И я, в твоем роддоме крещена
Злом, пылью, паутиной, сквозняком, —
Твоим мужам бессильным я — жена,
Да выбью стекла сорванным замком.
Из гневных флагов котому сошью!
Скитальный плащ — из транспарантного холста!
Армагеддон, прости судьбу мою.
Мне здесь не жить. Нет над тобой креста.
Я ухожу, смеясь, в широкий мир.
Кайлом и стиркой руки облуплю.
Продута ветром грудь моя до дыр!
Да ветер больше жизни я люблю.
Родилась она в славном городе, затерянном в песках и снегах Сибири, а названья его не упомнила, запало в сердце лишь одно — “град Армагеддон” называл его дед, посасывая трубку свою, а когда ей сравнялось пять лет, и дед, и мамка просто и тихо умерли, она и не поняла как. Соседи держали ее за руки и давали ей конфетки, когда грузовики с кумачовыми гробами поплыли, ковыляя по колдобинам и ухабам, на старое кладбище. Ее на кладбище не взяли, поминок не было, вместо поминок соседи надрались самолично купленной водки и стали бить друг друга, а потом пели и плакали. И кричали:
— Маринка!.. А Маринка-сардинка!.. Сирота ты, чо ль!.. Сирота!..
А что было потом, в побежавшие побитыми собаками годы, она и вспоминать не хотела.
Не хотела, а в голову лезло. Вспоминалось. Вспоминалось, как однажды она пела в колодце каменного двора, среди бельм замороженных окон и скелетов балконов, и ждала, что ей с балкона бросят денежку, а в нее бросили пустую бутылку, бутылка мазнула ее по лбу и разбилась об асфальт, а она упала лицом прямо в черную жижу лужи и нос расшибла, а с балкона кто-то черный, жесткий, хохотал и матерился. Вспоминалось, как в детдоме утыкалась исплаканным лицом в плоский, пахучий, обсиканный матрац, в подушку с казенной наволочкой, и выла тихонько, как волчонок, оттого, что Ираида опять велела ей завязать сначала Ираидины ботиночки, потом почистить их своим носовым платочком, а когда Маринка, глотая слезы, чистила (а уж как платочек-то жалко было!), Ираида заверещала: “Дура!.. Опять грязь всю мне оставила!.. Получай!..” — и ткнула ее ботинком в лицо. Вспоминалось, как жирная воспитательша, когда Маринку в детдом соседи сдавали, раздевая ее, обнаружила на шее у Маринки бирюзовый крестик, тот, что мамка надела на нее еще во младенчестве, вцепилась в крестик: “А вот это у нас нельзя носить, наши дети поганый опиум для народа не носят!” — и дернула бечевку, та порвалась больно, врезавшись до багрового вздутия в Маринкину шейку, Маринка протягивала руки, плача, к жирному кулаку, сжимающему крест, но все было бесполезно, мир катился в черноту. Вспоминалось, как она курила первую сигарету за гаражами, и, когда ее стошнило, детдомовские мальчишки, Леха и Сытый, дали ей подножку, и она растянулась на дурном месиве, крепко, подобно мальчишкам, ругаясь.
Вспоминалось… да мало ли что! Голова пухнет от тяжести этой. Довспоминаться можно до чертиков, до синих кругов перед глазами. До того времени, когда она сбежала из детдома, уцепилась за медленно бредущий вдоль станции товарняк и так, на буфере коровьего вагона, доехала до поселка Балезино, не евши, не пивши — а когда свалилась, вконец обессилев, с товарняка на пути и прибрела в станционный буфет, то буфетчица, охнув, так и осела наземь от ее худобы и заморенности: “Ох ты матушки, святая пустынница Мария Египетская!..” — и накормила ее бесплатно всякой всячиной, какая только в буфете нашлась — и бутербродами с засохшей семгой, и мерзлой железнодорожной курицей, и вусмерть разбавленным мандариновым соком, и даже просто куски сахара Маринке подсовывала, пока она ела, всхлипывая, утираясь ладонью, — и вот там-то, в Балезино, началась ее первая сезонная работа, так и осталась она на станции работать, в депо, девчонка, салага.
Сначала она вагоны мыла, убирала. Хорошо она это делала, старательно. Потом ей старикан один, обходчик, доверил колеса проверять — стучать по ним, с фонариком ходить ночами, поломки-неисправности высвечивать. А еще таинственное место было в Балезино. “Кладбище паровозов” называлось. Просто на путях стояли старые дореволюционные паровозы, с огромными красно-белыми колесами. Они стояли и ждали; никто их не трогал; в переплавку не направлял. Они стояли и ждали войны. Так объяснили Маринке. “Если будет война, — сказали, — и электропровода сорвут и разбомбят электростанции, вот тут паровозы наши и поскачут по рельсам, и всех спасут. Как во время войны перемещаться-то будем?.. А вот они, паровозы, вот родимые”.
Какие-то из мертвых паровозов подтапливали углем, оживляли — неизвестно, для каких целей; они важно и неторопливо скользили по блестящим селедкам рельс, пыхали угольным дымом.
Этот человек возник внезапно. Маринка ходила в оранжевой куртке, ежилась, стучала молотком по колесам скорого поезда “Москва — Лена”, поднимала повыше фонарик. Снег сумасшедше дул и фыркал в лицо. Вывернулась из мрака фигура, — машинистская роба, на правой руке нет мизинца, улыбка вспарывает, как финский нож.
— Чо делаем, девка, робим?..
— Отвали, — мрачно уронила Маринка, — будто не видишь.
И продолжала стучать железом по железу.
Беспалый машинист не отлипал. Он плоско и обрадованно шутил, вываливал на Маринку всякие неприличности и базарные анекдоты, толкал ее в бок, сморкался в снег, закурил, бросил “бычок” под колеса, прыгал на одной ноге, дрожал. Он был весь несусветный и странный, как красная звезда Марс над полуночным Балезином. От него исходил бешеный ток — Маринка это чуяла, но она была пацанка, и где ей было понять, что это за ток такой.
— Пойдем со мной? — внезапно кинул он грубо и страшно, перестав шутить и колобродить.
Маринка вскинулась: “А поезд досмотреть?!..” — но он, непонятный и безымянный, впервые увиденный ею человек, вдруг схватил ее поперек живота, как зверюшку какую-то, как кота нашкодившего, и поволок под секущим снегом в тень, прямо в распахнутый зев деревянного товарного вагона.
— Кричи не кричи, тебя здесь все равно никто не услышит, — процедил он, зажимая ей рот рукой. — Подумают, что это теленок в товарняке кричит.
И недобро усмехнулся, и ветер разрезал его усмешку.
ЧЁРНОЕ КОЛЬЦО
На кладбище паровозов.
Близ станции Балезино.
Ты пил мои злые слезы,
ты пил их, как пьют вино.
Ты угольщик древней топки.
И мертвый твой паровоз.
Литья твоего и ковки
не помнят пульсы колес.
Ты взял текучие ноги.
Ты грудью на грудь налег.
Раздвинул ветром дороги.
Вонзился жалом в комок
Белья, безумья, мороза,
где — уголь, ночь, полыньи…
Ты пил мои злые слезы.
А я испила твои.
Беспалый, углем пропахший,
калечный мой машинист!
Ножом в меня с неба упавший.
Разрезавший тишь, как свист.
Вспоровший нежное девство
рубилом — сколом — углем.
Срубивший под корень детство
серпом: “Да мы все умрем”.
Снасильничал. Мял, как тесто.
Вжимался лицом в лицо.
А после, дикой невесте,
напялил на палец кольцо.
Кольцо из черного камня:
по-угольному блестит.
Увечными обнял руками:
“А кровь из тебя… летит.”
А я лицом вниз лежала
на ящиках и мешках.
А я воробьем дрожала
на угольных сквозняках.
Железная ты дорога.
Проклятая ты моя.
Любовник первый — от Бога.
Вагон — навсегда семья.
Дрезины и вагонетки.
Коровьи товарняки.
И хлещут мерзлые ветки
над рельсами — две руки.
И пьет жадным ртом мои слезы
мой грязный минутный муж
На кладбище паровозов.
В гудках их мазутных душ.
Она любила жечь костры.
Она всегда любила жечь костры — и в детдоме, за гаражами, за туберкулезным диспансером, там собирались они, сироты, холоднющими ноябрьскими вечерами, натаскивали туда, в укромные места, палки-скалки, хворост, разломанные скамейки, доски со строек, щепки и уголь, и еще ящики и тару из хлебного магазина, старые журналы, бумагу бросовую, — все это сваливали в кучу, поджигали — и, как первобытные люди, плясали и бесились перед костром, вытягивая над ним руки, плюя в огонь, приближая к ярости длинных оранжевых языков румяные голодные лица. И она научилась костры быстро разводить — знала, как сучья уложить шалашиком, как горящую бумагу подсунуть, чтобы ветер не отдул, а наоборот, раздул новорожденный костеришко. А когда огонь рождался и плакал на ветру — она молилась на него.
После той свадебной черной ночи в товарняке она забеременела.
— Маринка, чо делашь?..
— Жгу костер.
— А начальник станции увидит!..
— Хрен с ним, пусть видит. Как увидит, так и зажмурится.
Товарки — кто с молчаливым смехом, кто с громкими сожалениями — наблюдали рост ее живота, но едва кто-нибудь начинал с Маринкой речь вести про ее тайну, она окатывала болтунью ледяным взглядом, — ноги пристывали к платформе.
И ночь за ночью, в самые удмуртские холода, она жгла и жгла за станцией, близ путей, свои костры, жадно и долго глядя в любимый огонь, пытаясь увидеть в нем себя, старую, ребенка, взрослого, Суженого, где-то спящего в пустыне снега.
Но красные жестокие струи захлестывали настоящее и будущее. А прошлое тлело лиловыми угольями: разворошишь — обожжешься.
ОЖИДАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
Огонь рвет Ночь. Огонь целует Тьму.
Пылает сын или дочь — Господи, не пойму.
Я жду. О Господи, жду. Всхожу на Твоих дрожжах.
Рожать я во Тьму уйду — со Светом я на ножах.
Сезонница. Голытьба. Сибирская дурота.
Бичовская худоба. Усмешливый омуль рта.
Уборщицы так нужны: вокзальная грязь кругом.
И дворничихи: весны разливы — под сапогом!
За злато гнется холуй. За медь — лопату держу.
Костер, мой живот целуй! И я — от огня рожу.
Я выгнусь в ночи дугой, младенец вспыхнет огнем!
В ночи от меня, нагой, светло, будто белым днем!
Взовьется к зениту крик! Молочная брызнет грудь!
…Ты станешь — во Тьме — старик.
А нынче — родись: сверкнуть.
В кромешной Тьме — просиять. К Венере взвиться — костром.
В тайге — пожаром стоять. И плачу, бродяга-мать,
Холмясь буранным бугром.
Ребенок, топчи пятой нутра кровавый прибой!
По смерти станешь — святой.
А нынче — родись: на бой.
И началось хождение по…
…по водам, по мукам, по исходам метелей, по кругам серпо-молоткового Гарлема, по трущобам, по работам-однодневкам и безумьям в вокзальных ночах на лавках — ибо начальник ее рассчитал, как только увидел въявь, что девчонка беременная и работница уже никуда. А так как она детдомовская была, без роду-племени, уволить ее труда большого не составило — бумажка подписью подмахнута, и весь сказ.
А сколь лет ей стукнуло, беременной собачонке, Бог и не пометил в церковно-приходской Своей книге.
Потому что паспорта у нее еще не было, а без паспорта — кто года сочтет?
Она даже к женскому врачу не могла попасть; а кормилась Бог знает как — только что милостыньку не просила. Посуду мыла в кафэ. Истопницу знакомую подменяла в котельной, пока та любовникам хвосты крутила. Хлеба немножко покупала, ржаного, капусту “провансаль” в овощной лавке брала — сильно ей квашеной капусты хотелось. Мыло тоже покупала самое дешевое, черное, стиральное, им и мылась в бане. Банщицы знали ее, перемигивались. Шутили беззлобно:
— Опять наша брюхатая школьница мыться прискакала. Ну, чистенький робятенок-то выродится на свет Божий.
Жить ведь тоже надо где-то было! Пришла она в казармы, к солдатикам. Говорит тихо, сияя, животом круглым идя на них:
— Ребята, у вас тут грязно бывает, дайте, я вам тут буду мыть, убираться.
А у самой по щекам крупные слезы текут, нежные такие, частые, жемчужинки.
Солдаты как грохнули:
— Тю, девчонка!.. Тебе с таким пузом… надо в креслице сидеть дома, распашоночки вышивать!..
И захохотали, обступили ее, куревом дышали в нее и всякими ругательными словами — о, сколько еще за всю жизнь она этих соленых и ядреных и гадких слов наслушается!.. — а старшина подошел, всех растолкал, на нее воззрился:
— Это еще что такое!
— Возьмите уборщицей, — жалобно попросилась Маринка.
— Отставить плакать!.. И просьбы юродивые тоже отставить. Уборщиц не берем, есть дневальные. Разве только офицерам… Да, дружочек, брюхо у тебя нешуточное. Как же ты залетела, а?..
Она повернулась и пошла, уткой переваливаясь, глотая соленую, мертвящую воду слепо закрытых глаз.
Когда у нее начались схватки, она побрела в поселковый роддом сама, пешком, спотыкаясь от боли, садясь на снег на обочинах дороги, отдыхая. В роддоме ее придирчиво осмотрели, посокрушались, что без паспорта, что девчонка, поцокали языком, градусник под мышку засунули: “Ого, температура субфебрильная!..” — еще по ее телу пошарили, покопались и нашли в ложбине спины, под лопаткой, прыщ — от недоедания на коже выступали фурункулы, и вся она горела, как головня. “В сомнительное отделение!” — крикнул врач приемного покоя.
Так и отправилась она рожать вместе с бродяжками, с бомжихами, с цыганками, с шантрапой, с уличными девками, которые тут же, в родильной палате, отказывались от своих кровных выношенных детей, с пьяными парикмахершами, с проститутками, — в Сомнительное Отделение Роддома Всея Руси, и глаза ее горели под домиком сведенными бровями в предчувствии неведомой, неслыханной боли, и, как будто кто толкнул ее под локоть, она перекрестилась, вступая в неизбежное. Когда воды отошли и ребенок пошел вон из нее, ломая ее, и она закричала, хотя дала себе яростное слово, что вот не пикнет совсем, — ее взяли, положили на металлический стол на белые простыни, заорали: “Тужься, дура!” — и младенец выскользнул, словно рыбка, и она прохрипела в кровавый воздух золотое имя своего ребенка, которое навсегда осталось тайной у Господа.
РОЖДЕНИЕ МАРИНКИНОГО СЫНА
В горьких трущобах со сводами тюрем,
В норах казарменной кладки,
В острых дымах наркотических курев —
Живо, наружу, ребятки!
Сладкие роды. Сопливые бабы.
Молот и серп — над локтями.
Сдерните эти нашивки хотя бы —
Рвите зубами, когтями!
Очередь улиц на детоубийство,
Бабы, занять опоздали.
Черной поденкой вы плод погубили,
Праздником — вновь нагуляли.
Праздник-душа: демонстрация, флаги,
Радио, зельц да вишневка,
Да из бумаги навертим, бедняги,
Красных гвоздик под “Каховку”!
С этих дождей-кумачей забрюхатев,
Выносив четкие сроки,
В горьких трущобах рожаю дитятю,
Жилисто вытянув ноги:
Ну же, беги, несмышленый бубенчик,
В Гарлем лабазов и складов,
В ночи разъездов, где винный путейщик
Перебирает наряды
Белых метелей, в дымы новостроек —
Брызнули ржавые крепи!
Режь головенкой солдатскою, стоек,
Сцепки, и спайки, и цепи!
Мать — обрекаю тебя я на голод,
На изучение грамот,
Где иероглифы — МОЛОТ И ХОЛОД —
Спят в заколоченных рамах.
Мать — я толкаю тебя из утробы:
В нежном вине ты там плавал!.. —
В гарь полустанков, в тугие сугробы,
В ветра белесую лаву.
Я изработалась?.. — Факел подхватишь.
Быстро обучишься делу.
…Картой Луны — потолок над кроватью.
Мучась, ломается тело.
Все я запомню. Сырую известку.
Содранную штукатурку.
И акушерку, что матерно-хлестко
Боль отдирала, как шкурку.
Вышит на шапочке — крест ли багряный?..
Серп-ли-наш-молот?.. — не вижу.
Выскользнул сын из меня, окаянной.
Ветер нутро мое лижет.
Ветер, ломяся до сердца упрямо,
Злые пустоты остудит.
Здравствуй, лисенок мой. Я твоя мама.
Пусть будет с нами, что будет.
Молока у нее, пацанки, было много. Хоть залейся.
Она прижимала сына к груди, пеленок было мало, снова зима на земле стояла — какие тут стирки, где?.. — она в строительное общежитие приткнулась было, да ее турнули с дитем, заверещали: ой, мы не уснем от крика, он у тебя так орет!.. — она пошла с сыном в церковь, его покрестили бесплатно, священник зажал ему нос двумя пальцами и окунул в купель целиком, с макушкой, Маринка сразу полотенце протянула и закутала его, причитая. А священник гундосил басом: “Крещается раб Божий…” — и влил в его ротик насильно чайную ложку кагора, и от вина мальчик уснул крепко и проспал двое суток. И так, прижимая его к себе, Маринка ходила с ним по дворам и подворотням, ища, где тепло, где хлебом пахнет и жалостью людской. Но везде была только злоба, злоба одна, круто посоленная насмешкой, сдобренная равнодушьем.
Наскребла она денег на невесть какой билет, подалась с мальчиком в неведомо какой город. Все гудело в ее ушах, плыло перед ее глазами. Сошла в незнакомом месте. Город, счастливый под стрелами зимнего Солнца, выпалил в нее и сына салютами всех вспыхнувших сугробов и белых до боли крыш. Дымы из труб поднимались в зенит мохнатыми хвостами, зимними розами. Младенец весь горел. Она заворачивала его плотнее, неистовей в дырявое, найденное на свалке одеяло. Может, вода в купели была ледяная, и он простудился. Может, кагор был холодный. А верней всего, это в поезде дуло изо всех щелей. Милый! Бедный! Она жаркими напуганными губами щупала ему лоб, щечки, плача, целовала его.
Вокзальные лавки были их ночлегом. За рубль ее пустили в комнату Матери и Ребенка. Постелили чистые простыни. Она с наслаждением вытянулась на хрустящих простынках, под боком у нее сопел сын. Посреди ночи Маринка проснулась, как от удара копьем. Мальчик задыхался и хрипел. Он уже не просто горел — его пылающее тельце превратилось в сгусток огня. Вот когда сбылось пророчество балезинского костра. И Маринка закричала, закричала от горя и ужаса.
Прибежали вокзальные служители, заохали, судорожно вызвали “скорую”. Но никакие “скоро”, “рано”, “поздно” — не властны над медным звоном Сужденных Часов.
СМЕРТЬ РЕБЁНКА МАРИНКИ
Ни кружки, что — к зубам стучащим. Ни примочек.
Во мраке — золотым крестом: не будет ни сынов, ни дочек.
Вокзал горит. Снега дымятся прахом. Светлая солярка
Зимы — горит. Ни шишки золотой еловой. Ни подарка.
Ни соски за пятак. Ни первых поцелуев.
Горит. Все: ноги, грудь, живот — горит напропалую.
Сколь поезд здесь стоит?..
…Локомотив меняют?!
Горит вокзал. Луна над ним горит. В одно соединяют
Пожарища. Куда?! Куда я с ним подамся — с комом жара:
Вертеп, лечебница, ночлежка, ресторан?! — я им не пара.
Сбивает ветер с ног. Култук? сарма? шелонник?.. или… —
Горит сынок мой весь. Крест на его могиле
Сама вкопаю — я! То город… или бездна поля?..
Горит зенит. Горят кресты снегов. И Божья воля
На все. Заплатят за уборку зала ожиданья — хватит
На домовинку: пятьдесят на тридцать. Пусть лежит:
на марлях и на вате,
На иглах кедров, на колоколах-снегах заимок енисейских
и распадков
Тарбагатайских… — да на шкурах тех волков,
что так любились сладко
На злой реке Иркут… а твой отец беспалый,
Суглобый машинист, в ночи считает шпалы,
Девятую сочтет — на день девятый вздрогнет кожей,
До сорока дойдет — в ладони зарыдает: Боже…
Горит!
………………..Уже остыл. Пеленки как грязны. Я отстираю.
Я отслужу. Я отплачу. Я вниду в двери Рая.
И там, где Петр Святой, смеясь, звенит тяжелыми ключами,
Я припаду к тебе, сынок веселый и живой,
и мелко затрясусь плечами,
А ты на облаке стоишь. Беззубый. Топчешь Солнце голой пяткой.
…Ты просто убежал домой. Туда. На небо. Без оглядки.
Ее не утешали. Ее невозможно было утешать.
Она превратилась в маленькую девочку, в иссохшую старушку. Малюткой, умалишенной сидела она на больничном полу, в углу коридора, перебирала спички в руках, ломала их. Ей приносили из столовой бутерброды. Она откусывала от них равнодушно, кидала, надкусанные, на пол. Кричала: “Птицам, птицам отдайте!” Ей пытались сделать успокаивающий укол — она отбивалась и царапалась, посылала медсестричек матом. Ее хотели отправить в психушку. Главный врач детской больницы сморщился, завязал на затылке маску, чтоб не видели его дергающихся губ: “Оставьте ее, дайте ей жить как живется, она отойдет, это пройдет. Только кормите ее, сделайте так, чтоб она ела хоть чуток…” И отошел, и махнул рукой. И медперсонал, послушный и напуганный, делал все так, как шеф велел.
А тут в эту детскую больницу явилась молодая пара. У них ребеночка прооперировали, благополучно — мальчонка оклемался, выжил, теперь сидел на руках у разряженной в голубые норки, красиво накрашенной итальянскою косметикой мамы, как чудесный котенок с бантом на шее. Молодой муж нарядной жены, отец ребенка, являл разительный контраст с нею. Высокий, с лицом землистого цвета, заросший бородою, лохмотья и заплатки не по-придуманному, для кокетства, а взаправду бедных, нечищеных и истрепанных одежд; левая рука сломанная, на перевязи; ногу тянет — хромой. Под мышкой — картина: холст, масло. Он поклонился врачу земным поклоном и содрал с картины прикрывающую ее газету.
И обнажилась грязная, расплывшаяся сладкой глиной под заунывным дождем осенняя тоскливая, протяжная дорога, длинная и печальная, как жизнь сама. Резкий холодный ветер там трепал желтые и красные кроны зябких нищих деревьев, а вдалеке шел-брел один-единственный Путник. На плече у Путника висела котома, а под мышкой сидел, верно, зверек какой — сурок, кролик, или еще кто-нибудь, тарбаган, может. Путник пел песню, дождь сек ему лицо. Если долго смотреть на картину, можно услышать, разобрать слова этой песни. И стереть с лица своего капли холодного дождя.
— Дарим вам, доктор, — хрипло и горячо проговорил бородатый хромец, — сына вы спасли. Спасибо. Я вам свою картину дарю. Простите за мазню. Не Леонардо я. Как умею.
Маринка поднялась из своего угла, бросила коробок спичек на пол и пошла, пошла прямо к картине. Она вся дрожала. ОНА УЗНАЛА СЕБЯ.
— Это я, — тыкала она пальцем в фигуру одинокого путника, — я это, я, я! — кричала.
Врачи, сестрички, нянечки столпились. Молчали. А Маринка зарыдала в голос. Упала на колени перед картиной.
— Это я, я иду! Ухожу от вас… вот завтра уйду…
Растянулась на полу плашмя, распласталась лягушкой, забилась, стучала головой в половицы, надраенные санитарочками, рвала на себе волосы и рыдала, рыдала тяжело, страшно. Главврач всех отодвинул рукой, кто ринулся поднять ее с полу:
— Не трогайте ее. Ожила. Слава Богу.
Хромой художник, угрюмец, сел перед ней, бьющейся на полу, на корточки. Зашептал:
— Девочка, не плачь. Я бы написал тебе такую же картину. И подарил. Но не могу. Тебе ее напишет твой художник.
— Кто?..
Она села, подняв зареванное лицо к хромому дядьке. Его красавица-жена, расфуфыренная краля, осуждающе глядела на них, подбрасывая и тетешкая румяного ребенка, и голубые норки на ней переливались серебристо, хоть сейчас пиши портрет. Но хромец смотрел на нее, только на нее. И резко, по всей больнице, пахло спиртом, хлоркой и кипячеными инструментами.
— Твой художник, — твердо, сильно повторил бородатый человек в залатанном пиджаке. И его жена дернулась лицом, но промолчала. — Ты встретишь его. И он напишет однажды на холсте всю твою жизнь и твой смертный час. Я знаю, что говорю. Моя бабка была знатная саянская колдунья. Она меня научила кое-чему. Я вижу будущее. Не всегда! Но вот теперь — вижу.
И он положил железную руку на плечо Маринки и больно, до кости, сжал его, клеймя, прощая, посвящая, заклиная.
А санитарочка Рая крикнула, плача:
— Сумасшедший дом!.. Ведь ужин скоро!..
Маринка поужинала вместе со всеми. А наутро встала, умылась в холодном туалете — из разбитой форточки дул беспощадный русский ветер, — сложила в сумку ребенкино одеяльце, на память, — расчесалась лошадиной гребенкой, поцеловала нянечку Раю на прощанье и ушла — в смоль, в белизну, в пустоту сияющего перед нею безбрежья.
ДОРОГА. ПЕСНЯ
К соли разымчивых рельсов язык примерзает —
Кровь опятнает неснятую шкуру зимы.
Узел платка. Старый ватник. Прольемся слезами
Вдоль да по лику земли жесткокрылые МЫ.
Крепко работала — вдоль поездов проходила,
Звон проверяла колесный — стучала киркой…
Все. Рассчиталась. Тяни меня, слезная сила.
Рядом со станцией — сын мой в земле под доской.
Перекрестилась на два семафора я — красный и синий.
Вот разрешающий, белый, диспетчер дает.
Свечи столбов вдоль дороги зажгла мне Россия.
В храме вагона душа Литургию поет.
Лейся, зеленый! Качайте кадилами, кедры!
Колотом бейся, сиротское сердце мое!
Я — небожитель… дыханием Лунного ветра,
Млечно, с исподу, продуто страстное белье.
А небожителю дом — заревая дорога.
А небожителю счастье — с едой котома.
Так и влачимся по снегу подолами Бога,
Пылью миров пропитавшись дотла, задарма!
Так вот и я, покидав на ладони монеты,
Чай закуплю, затолкаю в мешок сухари —
И — под звездами Медведиц — по грязному свету:
Ночью — костры. Утром — белые слезы зари.
Мне подмигнет на разъезде попутчик корявый,
Ведать не ведая то, что я родом с Луны…
И одеялом укроет мне тело со славой;
Шепчет: “Снегами валите, веселые сны!..”
Сжавшись в комок, я под тем одеялом заплачу,
Утлым подранком, последом-щенком заскулю…
Эх, астронавтка. Свалилась с Луны наудачу…
Звездным морозом-венцом лоб охватит горячий…
Все полюблю! Все прославлю! И все претерплю.
И на слепом полустанке я спрыгну, босая,
И упаду на колени я близ котомы:
К соли серебряных рельсов мой рот примерзает —
Кровь широко окрестит плащаницу Зимы.
…А потом с ней много чего странного приключалось. Была ржавая, рыжая осенняя тайга, уже по утрам резкой голубизной оковывали стволы, корни и сохлую траву звенящие заморозки. И Маринка сидела на поляне, поджав под себя ноги, и пела, а на ее песню из таежных игл, хвощей, папоротников и мерзлот выходили разные звери — лисы и лисенята, медведи, волки. Черные спины медведей блестели. Красные волчьи глаза жгли Маринкины щеки, шею. Она боялась, что пойдет снег. Ее рот стыл на ветру, волосы раздувались и летели в широкое небо, молчащее над вершинами лиственниц. Лисятки катались по иглам, повизгивали. Матери ударяли их лапами. А она продолжала петь, и холодный пот тек у нее по спине, меж лопаток. “Ты сумасшедшая! — говорила она себе. — Они загрызут тебя! Но молчать нельзя. Не молчи. Пой. Такое бывает раз в жизни!”
Когда она закончила петь, уже вконец охрипнув, и осторожно встала, и медленно пошла по таежной тропе к станции, звери, понюхав воздух, вздрогнули, поднялись, вытянув хвосты и напружинив лапы, и пошли вслед за ней, сопровождая ее. И один маленький волчонок заскулил, горюя, что певица умолкла.
А Маринка, чувствуя за спиной холод тяжелой своей котомы и жгучие зверьи глаза, усердно молилась Богу.
Были и цыгане дикие, в монистах, с американскими дорогими сигаретами в зубах, напавшие на нее на Тюменском вокзале и укравшие — для чего, Господи? — ее немудрящие пожитки, пока она спала на лавке рядом с густо храпящим торговцем-грузином. Когда она поняла, что из-под головы ее вытащили тючок с одеяльцем сына, с ее Памятью, — вскочила, разъяренная, и с кулаками пошла на старую цыганку, предводительницу рода, увешанную монистами, как елка в Новый Год на снежной площади! Цыгане навалились на нее всем скопом, вытянули ее на солнечный, режущий глаза снег — и били, так страшно били, что даже милиция побоялась подойти. “Только бы у них не было ножей… и только бы не каблуками, не ногами”, — думала Маринка, катаясь по снегу, закрывая глаза локтями, съеживаясь в нищий пуленепробиваемый комочек. Ее не убили, конечно. Но кровь на снегу — она видела свою кровь на снегу, и она улыбалась и выплевывала выбитый зуб на снег, и выплевывала на снег всю горечь и ненависть, оставляя в себе, внутри, только свет и любовь.
Был отсыревший, пахнущий грибами дом лесника, которому она готовила еду, поила и кормила его, пожила у него немного, а потом опять вдаль пошла, а он-то думал, что она к нему навек приблудилась, и не пережил ухода странной девушки с выбитым верхним глазным зубом — сварил ядовитые, ему одному известные грибы и залпом выпил отвар. Маринка ничего не знала о его любви, она была уже в дороге, она шла по берегу реки Иркут и свистела, а заночевала на заброшенной заимке, и ей приснился мертвый лесник, он вставал перед нею на колени и целовал ее живот, прикрытый засаленным кухонным фартуком.
Во вновь отстроенных домах она нанималась белить печи и красить полы, и хозяева не могли нахвалиться ею: малярша — чудо!
А она знала, кровью и рабочим потом своим знала доподлинно, что за горе будет ей награда, что увидит она за мазутными шпалами, за копьевидными рельсами, за лабазами и складами, за проржавелыми сажевыми трубами смертоносных заводов, за колючими проволоками зон, за дымящими избами и хлевами, где мычат рыжие сибирские коровушки, свою детскую, детдомовскую мечту, свою сказку — Град-Пряник, — а что-то там будет за ним, далеко, еще!..
И, получая замусоленные сальные деньги за свою великую, Всенощную работу, она мечтала о счастливой земле, она предчувствовала встречу, она мужала, грубела, застывала, матерела, старилась, идя навстречу мечте. Но, памятуя о том, как звери слушали ее в тайге, она улыбалась, и разноцветный радужный снег смеялся вместе с ней.
ГРАД-ПРЯНИК
Ох, Град-Пряник, я дошла к тебе, дошла.
Перед телом белым расступилась мгла:
Паровозы загудели славу мне,
Даль еловая раскинулась в огне!
И сквозь лузганья вокзальных всех семян,
Через визги, через песню под баян,
Через все скрещенья православных рельс,
Через месяц мусульманский, через крест
То ли римский, то ль мальтийский, Боже, то ль —
Через всю тебя, слезы Байкальской боль!.. —
Через гулы самолетов над башкой,
Чрез объятия, черненые тоской —
Через пепел Родин, выжженных дотла —
Ох, Град-Пряник, золотые купола,
Стены-радуги искристые твои!
Деревянные сараи — на любви,
Будто храмы на Крови! и пристаней
Вдоль по Ангаре — не сосчитать огней!
А зеленая ангарская вода
Глазом ведьминым сверкает изо льда.
А в Казармах Красных не сочту солдат.
Окна льдистые очьми в ночи горят.
И на пряничных наличниках резных —
Куржака узоры в иглах золотых,
А на проводах сидящий воробей —
Лишь мороз взорвется!.. — канет меж ветвей…
Ох, Град-Пряник, — а далече, между скал,
Меж мехов тайги — лежит Бурхан-Байкал,
Сабля синяя, монгольский белый нож —
Косу зимнюю отрежет — не уйдешь…
Синий глаз глядит в отверженный зенит:
Марсом рыбка-голомянка в нем летит,
Омуль — Месяцем плывет или звездой —
В нежной радужке, под индиго-водой!..
Да нерпенок — круглоглазый, ввысь усы —
Брюхо греет среди ледяной красы,
Ибо Солнце так торосы дико жжет,
Что до дна Байкала льется желтый мед!..
Ох, Град-Пряник!.. Я дошла: тебе мой стон.
С Крестовоздвиженской церкви — зимний звон.
Лязг трамваев. Голубиный громкий грай.
Может, Град мой, ты и есть — Господень Рай?!
Я работницей в любой горячий цех
Твой — пойду! — лишь из груди сорвется смех,
Поварихою — под сводами казарм,
Повитухою — тут волю дам слезам…
А на пряничных, резных твоих стенах
Нарисую краской масляной в сердцах
Горемычную, простую жизнь свою:
Всех зверей в лесах, кого кормлю-пою,
Всех детей, которых я не родила,
Все дома мои, сожженные дотла,
Все созвездья — коромыслом на плечах —
Как объятия в несбывшихся ночах,
Как мужских — на миг блеснувших — тяжких рук
За спиной во тьме всходящий Лунный круг,
То зерцало Оборотной Стороны,
Где смолою — до рожденья — стыли сны………………….
“…а Граду-Прянику имя Иркутск, и герб его — зверь бабр, и стоит град тот близ струй ледяной зеленой Ангары, вытекающей из Байкала; а у истоков Ангары, там, где Шаман-Камень, есть банька из черных бревен, срубовая; там живет — испокон веку — один старик. Никто не знает, кто он — пророк, лама, шаман, колдун. Когда в тайге идут по весне лесные пожары, он заговаривает огонь; когда к баньке прибредает медведь-шатун, старик выходит ему навстречу и поет ему прямо в морду — песню. Глаза у старика раскосые, как у китайского ребенка; из-под островерхой меховой шапки — косичка: луковым хвостиком. В хитрых его зрачках горят две Канченджанги. Изредка он приезжает верхом на старой белохвостой тибетской лошаденке в Град-Пряник и так учит мерзнущих на синем ветру Иркутян: не бойтесь Востока, скоро сюда придет Будда-Майтрейя с бирюзовым Третьим Глазом во лбу. Если вы воспротивитесь ему — он погрузит вас в черное озеро горя. Если вы полюбите его — вечно будут жить ваши дрожащие на ветру смертные души и маленькие мгновенные тела. Любите, тогда вы не умрете. Вставши, оденьтесь, поешьте, любите людей рядом с вами и любите Майтрейю. Все просто, и так спасайтесь! — учит старик, хранитель Шаман-Камня.
И в это время вдоль по Граду-Прянику, опушенные куржаком, бьют, как струны, друг об дружку провода.
И внутри них летят искры, долетая до сердца лениво поворачивающейся в зените с боку на бок Большой Сибирской Медведицы”.
Маринка оторвалась от манускрипта и глянула поверх воздуха и мира незрячими глазами.
Град-Пряник многое ей открыл в жизни.
В Граде-Прянике она наклонилась над зеленой обжигающе-морозной Ангарой, глянула на свое отражение в воде и с изумлением увидала, что молодость ее прошла. Вдоль по лицу текли и исчезали резкие морщины, как слезы. Сколько раз обошла она уже вокруг ближайшей, сверкающей Зимней Звезды?!
В Граде-Прянике она отламывала сладкие куски от резных наличников, от цветных печных изразцов, от ставней, похожих на золоченые складни, и грызла, вкушала, запоминая вкус, цвет и запах на долгую, дымную, черно-серую, смоговую жизнь.
В Граде-Прянике она в мороз познакомилась на улице с буддийскими монахами, одетыми в нарядные красные плащи и оранжевые куртки, похожие на дворницкие; “о, и у меня была такая же куртка!” — сказала Маринка, развеселившись, и потрогала пальцами монашью апельсинную ткань, сотканную, верно, далеко в горах — в Ладаке или в Лхасе. Снежинки слетали и весело садились на бритые голые головы лам. Они обступили Маринку, как те дикие звери в тайге. Сказали шепотом:
— Твоя судьба на рынке. Иди на рынок. Купи себе там стакан кедровых орехов. Увидишь, что будет. А потом соверши паломничество в Град Бирюзового Будды. Это будет деяние твоей жизни. Ступай!
И она послушно пошла на рынок — за пазухой у нее оставалось еще немного заработанных намедни деньжат; хватило бы не только на орехи, но и на кусок вяленой медвежатины, и на горсть вареной картошки с соленой черемшой.
Рынок плыл среди Града, как незатонувший корабль-призрак, и роскошная снедь вповалку спала на его жестких, усыпанных снежной серебряной крупкой плацкартных ларях и прилавках. Маринка металась голомянкой вдоль рядов, — орехи искала. Огромный заросший мужик запустил в рогожу мешка руку, из кулака с шорохом посыпались в мешок крупные кедровые орешки:
— Гля, девка!.. Одно веселье!..
И внезапно из-за мужика с ореховым мешком, из-за бабы, улыбающейся распаренным краснощеким лицом над кастрюлей с дымящейся мохнатой картошкой, из-за коричневокожей старой бурятки, бойко торгующей черным и желтым медом, медленно капающим с деревянной ложки-лопаточки, вывернулся…
— Картины, картины! Лебеди, попугаи, слоники!.. Вот чаепитие в Мытищах. Прошу пожалста. Недорого. А вот русалка на камне. Она плачет по своему возлюбленному. А вот два лебедя: один умер, другой на него шею положил. И всего-то за… Господа! Это уникальные картины. Не пожалеете! Вот старый китаец чинит рыболовные сети. Отдам за… не толкайте, холст проткнете!.. А вот розовая пантера. Она готовится к прыжку на берегу китайской реки. Авторское исполнение! Неповторимое! Всего за, Господи, сейчас и цен-то таких нет уже!
Губы Маринки пересохли. Забавный парень. Весело торгует. И картины — его. Малюет он их, конечно, левой пяткой. Двумя красками. Розовые лебеди на синем. Розовая кошка на берегу синей реки. И так далее. Коврики какие-то. Она на могла оторвать глаз.
Он увидел, как она смотрит, засверкал узкими чалдонскими глазами навстречу ей, шагнул ближе. Обвел рукой свою рыночную галерею, горделиво выгнул грудь:
— Что, недурно?
— Да уж, — выронила Маринка, как медную монету, — ничего.
Парень свистнул.
— Фью-у-у-у! Ничего! Да это же и сравнить нельзя ни с чем!
— Да, да, — поспешно согласилась Маринка, — ни с чем.
И они посмотрели друг на друга.
Все поплыло меж ними, снялось с места. Сместились снега, грады, страны, народы. Неистовые слезы заволокли ясновидящий хрусталик. Они потянулись друг к другу, возжелали друг друга до боли, до смерти. А что смерть людям, у которых вся вечность впереди?
И здесь, на рынке, на снегу в шкурках семячек!.. — невероятно. Чем заплатить судьбе? — золотом, платиной, драгоценной рухлядью, облепиховым маслом?.. — никто не знает.
Парень крепко взял ее за руку. Ослепительная лунная улыбка быстро взбежала на его широкоскулое лицо.
— Красавица моя, — только и сказал он, а больше ничего.
И они ушли с рынка вместе, смеясь, закупив с собою целую огромную сумку всякой всячины, лучезарной, сладкой, соленой, сочной, лакомой снеди — и помидоров, и хурмы, и копченых кур, и вяленых ельцов, и банку липового меда, и ее любимой картошки с черемшой, и орешков, и облепихи — ведь у него продались сегодня на рынке сразу две больших работы, они были теперь богатые, и, пока они шли к нему домой, в нищую захламленную мастерскую, Маринка украдкой трогала пальцами, сняв варежку, морду розовой пантеры на берегу китайской реки, ее уши и усы. А в мастерскую пришли — холод! Печку растопили. Чаю заварили с травой “верблюжий хвост”. Парень воззрился на Маринку, как баран на новые ворота. Так никто никогда не смотрел на нее. Она бессознательно поправила волосы — ранняя седина, черт! — улыбнулась, чтобы скрыть лапки морщинок, а они еще ярче, злее проявились.
— Все равно ты Венера перед зеркалом, — упрямо и хрипло сказал парень, — все равно я буду тебя голую писать.
Шаг. Еще шаг. Еще шаг к ней. Он снял с нее платье в заплатах. Она сняла с него рубаху. Они стояли друг перед другом нагие, золотые, положив пальцы на худые ребра друг друга, горели сухим и яростным жаром. Он встал на колени и стал целовать чечевицы ее родинок на нежном куполе живота, на выгнутых дрожащих бедрах. И все расходилось, разъединялось под его поцелуями: и сведенные колонны ног, и марево и темь живота, и лунные лики грудей, брызгающих из сосцов звездами в разные стороны черного морозного Космоса, и все ущелья и заливы и протоки и каньоны и затоны и лощины и…
…и когда она уже лежала навзничь, а он летел навылет через нее и пел и кричал бессловесную песню, стремясь выкричать в нее счастье и взять в себя ее молчаливую боль, она простонала:
— Ты моя судьба, чо ль, паря?..
А он, летя и улыбаясь, положил мокрую, жаркую руку ей на губы, приказывая молчать — навек, до разлуки, до встречи.
Ламы, ламы в апельсинно-оранжевых святых куртках! Они пришли, когда любовники заснули, и повелели, и напомнили. Обещание было дано Маринкой, и, коль ты живешь в Азии, клятва паломничества — незыблема и соблюдается тщательно. Утром, когда уличный художник еще спал, она, как всегда и везде, выскользнула из дома незаметной, тихой мышкой, с узлом на спине.
Шла и плакала, а утренний мороз был силен, редкие автобусы гудели ей вослед, а слезы застывали на щеках и падали, осыпаясь, с тихим шуршащим звоном, улетали, подхваченные ветром, в зенит.
Она спрашивала дорогу, ей показывали. Ехала в узкоколейных старых поездах, тряслась в крестьянских телегах, шла пешком через дабаны. Синяя гладь громадного Озера покачивала на ладони перед ней одинокий ледяной торос. Монастырь стоял на грустном берегу, у крыши были загнуты к небесам углы. “Дацан…” — прошептал далеко в ней птичий голос. Перед дацаном ветер вращал цилиндры с нарисованными на них тушью иероглифами. Тайные письмена вертелись перед глазами Маринки, таяли, восставали из тьмы снова. Снег летел на них сверху, жестко крестил их, целовал. Легкий звон невидимых колокольцев наполнял воздух над Озером и зубцами иссиня-стальных гор.
Старик в островерхой меховой шапке, с китайской косичкой, возник перед ней, как из-под земли.
— Что, Марина, — прохрипел, — хочешь в зеркало Озера поглядеть? Хочешь ВСЕ там увидать?..
Она поежилась. Прижала натруженные, мозолистые руки к груди.
— Нет, все, пожалуй, боязно…
Усмехнулся печально старик. Захромал к цилиндру, повернул барабан рукой. Пляшущие письмена поплыли, замелькали, сливаясь в сплошные черные рыдания.
— Вот твое будущее, — жестко, жестоко сказал старик, следя глазами бег цилиндра. — Суждено тебе меч Гэсэра найти. Суждено им сражаться. Излечишь много людей в людском море от страданий, но суждено тебе от людской руки умереть. А человек, которого ты любишь, все увидит острым глазом, все запомнит, все запишет, оставив тем, кто придет после нас, в назиданье и в урок — вот как ты, Марина, любила и жила, какие совершала деяния на этой Земле в этом воплощении своем.
— А какие… — голос Маринки пресекся… — какие у меня еще были… будут воплощенья, старик в лисьей шапке?.. Ответь…
Хитро прищурился монгол. Запрещающе сверкнул перед ее лицом лезвиями глаз.
— Об этом нельзя говорить, женщина, — молвил сурово. — Довольно и того, что ты знаешь про меч. Гэсэр-хан его надежно спрятал. Лишь тебе одной, из всех смертных, суждено его в руки взять, поднять, прижаться губами к нему. Но смерть твоя рядом с ним зарыта, терпеливо ждет тебя, Марина, Морин-Хур.
И звенели, звенели льдинами в сведенном судорогой мороза немом воздухе незримые колокольчики: “Цзанг, цзанг, цзанг… Цзанг — донг… Цзанг-донн…”
ГРАД БИРЮЗОВОГО БУДДЫ
Цзанг-донн… Цзанг-донн…
Из морозных похорон —
Хвост павлина. Ночь сапфира.
Видящее Око Мира —
До ядра Земли дыра,
Во льду нерпичья нора…
Упаду на колени… Милый, бедный мой Будда.
В Иволгинском дацане, дура, вымолю чуда —
Поседелая баба!.. успокоиться где бы!.. —
Снег по-старомонгольски вниз посыплется с неба…
Ах, мой гладенький Будда, из нефрита сработан, —
Ты сними дождевик мой, оботри мои боты
От грязюки, налипшей на солярковых трактах,
Излечи от осенней — дождевой — катаракты!..
Ты любовник был чей-то, царский сын Гаутама…
Я погибла, мальчишка, я скажу тебе прямо.
Я в болоте судьбинном знала кочки и броды,
Да мужик придорожный глянул в душу с испода.
А мужик-то — эх, Будда!.. — жердь, юродивый олух,
Площадной он художник — не учился он в школах:
Расписует он ложки, шьет для лам гладко-бритых
Ярко-алые куртки! мастерит из нефрита
Толстобрюхие нэцкэ, чечевичные четки —
Да на рынке в морозы с ними пляшет чечетку:
Раскупайте, сибирцы, Гоби высохший пряник,
Продаю за снежинку… за табак да за стланик…
За ледовую пулю колчаковских винтовок…
За бруснику-кислушку автобазных столовок…
За зеркальный осколок декабристских трельяжей,
За шматок облепихи!.. За верблюжию пряжу
Забайкальских метелей, — ах, мой Будда, а я-то —
С ним — навытяжку — рядом, наподобье солдата!
Он базарный художник!.. торговал он и мною,
Моей шкурой лошажьей, омулевой спиною;
Мне пощечину утром как влепил — я запела,
Нож надел мне на шею — я и снять не успела…
Будда!.. Ты, Шакьямуни!.. Помоги!.. Распласталась
Лягушонком в дацане, видишь, бью я на жалость:
Вся любовь человечья — это створки перловиц,
Больно рвем их, осклабясь, ловим жемчуг былого,
А о будущем — жмурясь!.. позаткнув крепко уши!.. —
Не видать и не чуять, не вдыхать и не слушать,
Только знать, что Любовник был с Любовницей вместе
Ночь одну, две ли ночи, — дольше — много ли чести!..
Будда!.. гладкий пупок твой, пятки — ртом я горячим
Простегаю!.. над нежной маской смерти — заплачу:
Зри своим Третьим Глазом — я не Белая Тара!
Колдуну-малеванцу я, мой Боже, не пара…
Я сезонка, поденка. Бельевая корзина.
Я железнодорожка. Мое имя Марина.
Я с путейцами — водку. Я с обходчиком — чаю.
Твое, Будда, рожденье в феврале отмечаю!..
Будь здоров!..
………………..умоляю… пособи мне, щербатый…
Ты же можешь, Майтрейя… мы — твои все козлята…
сделай так… чтобы я с ним на постели сплеталась…
чтоб без запаха красок во припадке металась…
чтоб он в кружке монгольской мне заваривал мяту…
чтобы жил без меня он — как на камне распятый,
а Звезда ледяная ему печень клевала…
чтоб ему было мало… — все меня!.. — было мало…
всю-то жизньку-жизнешку, всю судьбу-то-судьбишку —
до того, как гвоздями заколотят мне крышку, —
слышишь, ты, доходяга, медный, прозеленелый?!.. —
Я люблю его душу. Я люблю его тело. Ты прости, Гаутама, мальчик, если позволишь — Я тебя поцелую!.. …Я целую — его лишь.
Цзанг-и-донг — на морозе.
Четки-слезы струятся.
Куржаком не обвиться.
Никогда не родиться.
Никогда не расстаться.
Теперь весь ее Путь согревался им. Им одним.
Где бы она ни жила, как бы каторжно ни работала, по каким бы дорогам ни шлялась, как бы ни курила сухие травы и дешевые табаки, пытаясь отвлечься, забыться, забыть, — она неизменно, как пьяница к бутылке, возвращалась к нему. От соды, от горячей воды, от выжимаемых тряпок, от грязных ведер трескались и опухали руки. Легкие прочернели, устали вдыхать заводскую пыль, терпкие испарения автоклавов, сажевые хлопья, древесные опилки. Человечество постоянно что-то производило, люди копошились по лику земли, как букашки-трудяги, и кто-то должен был делать черную работу — драить, скоблить, вылизывать, подчищать. Маринка попала в чернорабочую часть человечества — она это давно поняла. И не роптала. Она отроду смирилась с данной Богом участью.
Засучи рукава до носа. Клади шпалы. Таскай тяжести. Наклоняйся низко над чужой обувкой в уличной будке, подбирая шнурки и стельки. Вынимай рыбу из лодок, в мешки и ящики ссыпая. Мало ли дел на этой планете! И за каждое дело деньги жалуют, а ведь она женщина еще. И тоже хочет красоты какой-никакой.
Правда, особо не до ухорашиванья ей было — подъем в рабочих общежитиях ранний, шесть утра, постылое радио гремит дивный гимн; залихватски, чтоб проснуться и подбодрить себя, ругаются соседки, ноги спуская с постели. Холодные вытертые одеяла в трубочку закатать, сбегать наспех умыться в отхожее место, пахнущее клопомором, расчесаться железной расческой — вот и весь марафет сезонки, лучше не придумаешь. Широко раскрывала Маринка глаза на тех баб, что прыскались под мышками всякими зельями, и даже заморскими. А пахли они завлекательно! Однако не в театр же стопы направляем, а на завод!
Она ненавидела горячие цеха — пришлось там поработать немного. На одном из ее пальцев, на удивленье товаркам, горело железное, стальное кольцо, происхождение его многих девок и баб занимало, они подкалывались к ней: “Маринк! А Маринк!.. поделись, а, кто тебе фартовое такое кольцо залимонил?.. чай, ручищи-то у тебя вон какие грубые!.. оно тебе как зайцу мандолина… и жа-лез-ное!.. небось это примета какая…” Она молчала, недобро глядела.
Стал ее одолевать нудный, надсадный кашель — то ли курево давало о себе знать, то ли смог, коим пропитались ее альвеолы и бронхи, прогрыз внутри нее мышиные ходы и дыры. Она заходилась в кашле, падала плашмя на панцирную сетку казенной койки, сотрясаясь до слез. Сожалеючи смотрели на нее случайные спутницы по жизни. Кто-то однажды, во время такого приступа, заварил ей чай с липовым цветом — она прослезилась от благодарности: еще никто, никогда, так нежно!.. Болеть некогда было. Сухой маятник земного времени стучал неумолимо, и время было отмерено жадной, придирчивой рукой и расписано по секундам. Рабочему человеку нельзя болеть. Она теперь слишком хорошо знала, что такое рабочей лошадке быть беременной и больной. Значило это только одно слово — “прощай”. Но и рассчитываться и прощаться она уже научилась без дрожи.
И чем дальше шла-бежала жизнь, тем больше, тем бесповоротнее понимала Маринка, что занесла ее нелегкая сюда лишь погостить, что наработается она — и уйдет, Луна ждет ее, молча, серебрясь, терпеливо.
Ей ничего не было жаль — беспросветная работа так измотала ее, что она с радостью ушла бы отсюда к Луне САМА, но ее художник! Ее художник! Как же он без нее!..
Она-то без него — могла.
Мужиков ей на дух не надо было, хоть ночами и отжимали ее, как тряпку, судороги любовного ужаса, смертно льющейся стоном истомы. К ней клеились, приставали, нагло или робко ухаживали за нею — мрачные рабочие, пьяные бомжи, разбитные сутенеры, хромые старики — сторожа складов; было дело, что ее даже насиловали, брали за здорово живешь ее никому не нужное тело, но все это была сущая чепуха, тело — кому оно было нужно, худое, резкое, в изломах костей и изработанных мышц, обездоленное, пустоцветное?! — это тело вроде бы принадлежало ей, но оно ей было ни к чему, берите на здоровье, ешьте, пейте, кусайте, глумитесь, хоть разрежьте на куски, он все равно НЕ МОЙ, этот грязный кусок говорящей плоти. А МОЕ — это моя душа. Да и та — не моя. Моя душа мне не принадлежит. А принадлежит она — сами знаете, кому.
И те люди, вонючие, жестокие, мускулистые мужики, что мяли и щупали ее в темных сокрытых от всякого глаза местах, смеялись ей в лицо, блестя вставными серебряными зубами и белками вожделеющих глаз, были ей совсем не страшны, совсем не нужны — ни ей, ни ее телу, ни ее душе.
Душа ее стояла на солнечном рынке в Граде-Прянике и обнимала и целовала бороденку, рот, усы и волосы, и лоб, и щеки, и глаза, и душу своего художника-колдуна.
Так сбылось пророчество хромца в детской больнице.
Так, возвращаясь снова и снова, опять и опять к нему, как забулдыга — к ртутно поблескивающей тяжелой гранате, всклень налитой веселящей, обжигающей нутро отравой, она в этих еженощных возвращениях набрела однажды на него — спящего; он спал на продранном диване мастерской, разметавшись, как умерший сын-ее-младенец во сне, вскидываясь, стеная, бормоча бред; вокруг него, на полу и на табуретах, были разбросаны кисти, полувыдавленные тюбики, засохшие палитры, порезанные ножом — в припадке ненависти, минутного безумия — холсты и эскизы. Она душой наклонилась над ним, отвела неслышно прядь с мокрого лба: там, за думными лобными костями, за биеньем резвой сердечной мышцы, жила его душа, волчья, собачья, бродячая, рыночная, скитальная, родная. И села она невидимо рядом с ним, у его изголовья, на холодный пол, и решила спеть ему КОЛЫБЕЛЬНУЮ ЖИЗНИ ВСЕЙ, пока он спит, ее ребенок, ее щенок. А еще поискала она взглядом среди холстов — нет, ее он не нарисовал голую, как обещал, а здорово было бы!.. да он забыл небось, какая она, голая-то, небось на ощупь родинки на ее белом животе, на крестце, под левою лопаткой уже не найдет, ушел поезд…
Так, плача, творила она новую песню.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ХУДОЖНИКА
Спящий волк или собака — ты, слепой…
Дом наш — костью в горле мрака: снег да вой.
Мертвенный рентген оконный зрак пронзит.
Дом наш — поезд забубенный, пыль, транзит.
Исхудалой проводницей сплю я в нем.
Спи, мой Волк! Тебя Столица жжет огнем…
Там картины бы тебе повыставлять…
В ресторанах бы “мартини” попивать…
Раздевать натурщиц… в “мерседесах” спать…
Да в метро старух рюкзачных целовать…
Спи, художник, спи, бродяга! Хрипота
Колыбельной — да сожжет мои уста:
Вот работала я, милый, на путях —
Плащ мазутом да соляркою пропах;
По колесам, чисто дятел клювом, — стук! —
Напиши портрет моих беззубых рук…
А еще в подсумке лет — горячий цех:
Синь халата да работниц тяжкий смех,
Визги огненных машин, металл да грязь,
Да глухой от шума мастер — цап! — смеясь…
Он меня и подстерег среди машин,
Средь хребтов стальных, железных лап и спин.
Повалил, подножку дал — лишь помню, как
Лампа красная на пульте била мрак…
Тряпку, всю в машинном масле, сунул в рот.
Думал, верещаньем подниму народ.
Я ж — молчала рыбой. Дура дурой. Тьма
Винно-медная сгущалась. Я с ума
Там сошла. Горячий цех весь хохотал.
Я очнулась — палец мой сдавил металл.
Так ношу с тех пор подарок заводской,
То кольцо стальное, нищею тоской
Гравировано… — а я верна огням!
Подалась в село — чесать хвосты коням!
Ты не смейся!.. Гребнем грызла конский хвост —
Все, клубясь, летело: от репьев до звезд!
Я конюшни чищу — музыкою ржут…
Что платили — пастухам раздам: пропьют…
Осень грянула дождями обземь — прыг
На красавца вороного! Только крик
Потянулся паутиною за мной,
За наездницей, за ведьмою ночной…
Так скакала я на вороном коне
По суглинку тракта, по седой стерне,
А короткая рубашка до пупа —
Ночью сбечь, покуда колхозня слепа!..
Холод пятки жег мне! Дождь кислотный ел
Мне глаза! Рубаха белая, как мел,
На хрусталик ночи — драное бельмо!
Озерко в тайге — разбитое трюмо…
Задыхаясь, доскакала: химзавод!
Порошков стиральных погребальный взвод…
Что ж, любимый, хлеб-то надо мне кусать —
Подрядилась в чаны мыльный яд ссыпать!
Я ссыпала яд, ссыпала… и в ночи
В чан свалилась — хохочи не хохочи…
Крик: авария!.. Палата. Свет и резь.
Промывают мне глаза — а я не здесь.
Я, ослепнув от стиральной дуроты,
Вижу мир — до дна, до смертной наготы.
Вижу, как младенцы чресла бабам рвут.
Как старухи над покойником поют.
Как снопами искры бьют из животов
Пылко любящих. Как лед ножа суров,
Под которым — горло хрипа и тоски.
От иконной и до гробовой доски —
Вижу все. Ладони как я воздыму!
Врач вопит: “Из-за тебя греметь в тюрьму,
Оборвашка ты, химичка!..” Из моих
Кверху вскинутых ладоней золотых
Как ударит в небо пламени весло!.. —
Так лицо врачице той и обожгло…
Вру, считаешь?.. Спи, Волчонок… Побожусь:
Это жизнь моя, и в ней я не собьюсь,
Не сопьюсь и уж не спячу я с ума:
Всех Юродивых Царица — я сама!..
Не жалей меня. Не суй в кулак мне грош.
Я люблю тебя. Вот все, что мне даешь.
Заработаю я денег. И на снег
Сяду песню петь. Польется из-под век
Соль лучей. Над сердцем — крест. В ладонь не суй
Медный мир. Вставай с мольбертом. Нарисуй
Ты меня — как я тебе была жена.
После — полночь. Звезды. Холод. Путь. Луна.
Человек навстречу. Алый плащ. И взгляд
Бирюзово-кроткий. Нет пути назад.
Я тулупчик сброшу под ноги ему.
Сухощавые колени обниму.
А лицо воздерну — Боже, дай нам днесь
Корку черствую: да это Ты и есть.
И вихрем закрутило ее Время.
Стояла она на вокзале долго у касс, размышляла: купить — не купить билет на пассажирский поезд до Столицы?!.. — дорого стоит, число-то с нулем, тут призадумаешься. Наморщила она лоб, отошла от хрустальных клеток касс с мертвящим светом ртутных ламп, закопошилась в штопаном кошельке. Уж так хотелось ей в Столицу! Ей представлялось: вот приедет она туда, сибирячка, бродяжка, лимита, будет работать дворником, ломом лед рубить, в медовых кружевных окошках будут сладкий чай с крендельками попивать, а она, дворничиха, станет черно блестящий лед раскалывать на тысячи острых кусков, глядеть в постылый, ненавистный тротуар, как в калейдоскоп, — грязь и снег меняются все время, переливаются — то сапфиром, то агатом, то еще Бог знает чем. Будет она поздним вечером на столичной улице Большой Никитской грязную ледяную кашу лопатой, жестью обитой, счищать, слышать, как бьют куранты со Спасской башни, — а тут они и подойдут, четверо молодчиков, дыхнут водочно, ликерно, страшно, издевательски. Она и забоится. Но виду не подаст. Засверкает на них веселыми глазами, наледь усердно скобля, стуча и шваркая лопатой. А они, четверо, обступят ее. Молча. Жутко. Она не остановится. Локти ее будут ходить ходуном, пот — стекать по розовым, из-под драной шапки, щекам. “Каво смотрите, ребята? — скажет она по-сибирски. — Ну да, лимита я, за прописочку гнусь. Тяжело женщине, скажете?.. Эх, меня не знаете! Я — все работы целовала взасос, как своих разлюбезных. И работы меня любили. Меня никто не истопчет и не обессилит и ничто! Разве что — гранату кто под ноги кинет…” А страх, колкий и жгучий, будет перцем подирать ей холку, спину, сердчишко. И что ж они сделают, эти четверо охламонов? Да ничего — просто один из них вынет из-за пазухи плоскую бутылку дагестанского коньяка, фляжку такую, другой — из кармана — краденую из кафэ рюмочку, а еще двое будут сосредоточенно глядеть, как друганы наливают осторожно коньяк в рюмочку, подносят к самому носу Маринки и просят: “Выпей, согрейся, красавица. За всех замерзших дворников мира выпей!..”
И она выпьет за всех замерзших в сырости и безвестии, сгорбившихся над грязными тротуарами дворников мира, поняв только одно — никогда не надо ничего бояться, думать о людях плохо не надо, вот она подумала о людях плохо, а они взяли и ей устроили праздник. И слежалый, мрачно-истоптанный снег радостно вдруг запахнет новогодним коньяком, Рождественским шампанским, чищеными, брызнувшими под ногтем мандаринами.
А потом она придет к себе в дворницкую плохонькую каморку в клопиной московской коммуналке, с ходами-переходами, с катакомбными норами, уткнется лицом незрячим в выцветшую перестираную наволочку — и затрясется вся, снова, опять, в одиноких яростных рыданиях: утварь милая, жалкая, из рук в руки у дворничих, как факел, переходящая — китайский фонарь настольной лампы, бедняцкое обтерханное блюдо с карамельками к чаю — вместо дорогого сахара, колченогий стол, диван, найденный на задворках, зеркало с отбитым углом и с амальгамой такой чистой и бездонной, что голова закружится, ежели заглянешь, — вот она, столичная жизнь, а она, Маринка, так хочет быть в Столице знаменитой! Так хочет просиять! Засверкать! Чтоб все шли по Никитской, по Гранатному, по Столешникову переулку, где после ярмарки-торжища столько грязных рваных коробок, изломанных ящиков и мусорных пакетов надо убрать — полночи ей еле хватает, чтоб все привести по-хозяйски в Божеский вид!.. — чтоб народ весь шел мимо нее, шел — да спотыкался об нее, об ее сияющий взгляд, об ее неповторимое лицо… ну-ка, каково оно, лицо-то, в лимитном зеркале?.. уродка, уставшая баба, синяки под глазами, но если выспится и поест, то еще терпимо, — спотыкался и, восхитившись, кричал: “Да это же Маринка!.. Знаменитая Маринка-сардинка!.. Знаменитая Царица Юродивых!.. Она — звонче всех песни поет! — так, что звери ее слушают… она — у Третьякова в фильмах снималась, у Малиновского… шаманку сибирскую играла, им была нужна только такая — с чуть раскосыми глазами, терпкая такая девочка, да и простая, чтоб и ругнуться сумела, и свистнуть, и отпор дать где надо… Ее приглашают к себе на чай с яблочным пирогом и вареньем из инжира — м-м-м, как превкусно!.. — Алла Пугачева и старая Татьяна Самойлова, плачут, дуя в блюдца, и шепчут: ты, Маринка, одна наша надежда!.. Вон, вон она, глядите! — колет лед…”
Так и будет, все так и будет.
Она приблизилась к буфетной стойке, взяла себе стакан пойла, именуемого кофе. Рядом с ней за столиком стоял, глодал свой мертвый пирожок одноглазый старичок, вида бродяжьего, хоть локоть оттягивала ему сетка отборных золотых лимонов.
— Куда собралась, горемычная? — прошамкал старик и шумно хлебнул горячей бурды. Маринка тоже отпила, не сморщилась.
— В Столицу, вот куда.
Старичок с лимонами невесело посмотрел на оборванные плечи и локти ее пальтеца, усмехнулся коряво:
— Так-таки она тебя и ждет, Столица. Заждалась.
— Это я ее заждалась, — сердито обронила Маринка и с жадностью поглядела на пожухлый пирожок в трясущихся руках бродяги, потом — внимательно — на табло: до отправления пассажирского, транзитного, оставалось…
— …заждалась я ее. Настал черед нам встретиться, — бросила она в лицо жующему свой хлеб старику и быстро пошла, побежала к кассам, еле успела взять билет, а когда подбегала к вагонам, то проводницы уже подняли лесенки-подножки и выпрямились, скорбно глядя в лазурную даль, с желтыми флажками в руках, и Маринка запрыгнула в вагон как циркачка, резво закинув угластое тело в ржавую сутемь и клепаную пустоту тамбура под хриплые грузчицкие виражи проводниц.
И всю дорогу до Столицы она постилась — не ела, не пила, чтоб деньги, привязанные к лифчику, целы остались; постель не брала, дремала на голом матраце, укрывшись пальтецом. Попутчики, переглядываясь, спрашивали глухо, тихо: “Беднячка такая? — Издалека едет. — А что спит все время, лежит бревном на верхней полке?.. — Может, у нее кто-то умер. — Ей чаю заказать?.. — Бесполезно — откажется все равно, она как под снотворным… — Что же в жизни случилось у ней?.. — У нас у всех в жизни случается ЖИЗНЬ, дорогой мой, — каждый день…”
— Эй, попутчица!.. Чайку!.. У нас и рулетик есть, домашний…
Молчание. Тьма. Дует в окно пронизывающе. Фонари за окном. Станции. Полустанки. Россия. Страна. Синяя кровь железнодорожных стрелок. Светлые ножи рельс. Молитва под звездами, скачущими в окне, под тянущимися проводами: только всех плавающих и путешествующих сохрани, не дай им разбиться, потонуть, сгореть. Спаси их всех.
А когда за окном поезда заклубился Ярославский вокзал, Маринка скатилась с полки, напрягла свое тело, вскинула душу до звезд: ночью поезд в Москву пришел, ночью. Вывалились они все на перрон, на снег, под хлесткие струи сырой метели, а тут им сразу и открыли глаза, куда они прибыли на пассажирском, в какую Столицу:
— В военную, граждане!.. Военное положенье у нас, понятно?.. Война у нас, ясно?! — необъявленная, без видимых причин, оружие носить запрещено, комендантский час уже три месяца, особо смелые, можете вступить в отряды дежурантов или в добровольные колонны слежения за порядком!.. Все вещи — с перрона на досмотр, первый зал направо!.. Проверка на оружие, холодное и огнестрельное!.. Люди иногородние, без московской прописки, досматриваются особо!..
Маринка все сразу поняла. Попала, как кур в ощип. И кровь ее взвеселилась, заозорничала. Жизнь-то продолжается. И дворники нужны военной Столице, и прачки. Работенка найдется. А выстрелы над ухом, в подворотнях да в проходных дворах — что выстрелы?.. эка невидаль — стреляли и будут стрелять, то пожиже, то погуще, а столько выстрелов раздастся, сколь отпущено Господом, и столько сердец от них умрет, сколько задумано свыше, чтоб они биться перестали. Но не ее! Нет! Она так хочет жить!
Она и в начиненной танками и пулеметами, тупорылой этой военной Москве хочет в полную силу, громко и отчаянно жить, жить, жить — пока часы не звенят, пока снег нещадно бьет в грудь.
И, выйдя с котомкой своей за плечами на Комсомольскую площадь и увидев танки, что застыли — кругами, спиралями, зловещими узорами — во всех заводях городской текучей реки, она весело улыбнулась им, танкам, и подумала озорно:
“Будете огнем плеваться?..”
ГРАД КРАСНОЗВЁЗДНЫЙ
Пятиконечная, прорезанная
В снегу — кровавыми ступнями,
Пятисердечная, истерзанная
Когтисто-острыми огнями,
Остекленело вязь считающая
Венца кровей — под микроскопом! —
И чистокровной — стопку ставящая,
А инородцев — в топку, скопом, —
Остервенелою духовностию
Хлестающая скотьи спины,
Над башней танка — златокованною
Главой — глядящая чужбины,
Ну что, Столица, ночь сжирающая
Горящей смертью небоскреба, —
Война! Молися, умирающая,
У красномраморного гроба.
…Я пришла к тебе, я пришла к тебе,
Скарб крылатый приволокла на горбе.
Щенком доползла: зубами — за кумач.
А старухи в церкви мне бормочут: не плачь.
То ли еще грянет. Земля загудит.
Саранча из расщелины земной полетит.
Металлические стрекозы. Стальные пауки.
Ржавые гусеницы — толще руки.
Накипь белых глаз хлынет через край.
На снегу пластаясь, крикну: не стреляй!
Ведь она живая, нечисть-война.
Она в красный Мир, как сука, влюблена.
А, да ты Москва! — на исходе дня —
Куском снега в горло — спаси меня;
А, да Краснокаменная — на исходе зла —
Прими работяжку без рода-без угла:
А и все богатство — мертвый сын в земле,
Примета особая — шрамы на челе,
Ладони — в мозолях; сожму — что деньга,
Твердые!..
…Война.
Брусничные снега.
…Да мы революцьями сыты — вот так.
Заелись. Отрыжка — дымами
Вонючих атак. Красный выкинут флаг.
И белый — сквозит между нами
Рыдающим Ангелом. Прет броневик
В морозную тьму — кашалотом.
Живая, Война!.. Зверий сдавленный крик.
И люди слепого полета.
Сгущенки, тушенки, — забиты склады!
Кто оптом купил — содрогнется.
Ах, пороты у Революций зады,
И розга соленая гнется…
Что, пули, что, дуры?! —
Над ухом свистит.
Дверь выбита молотом тела.
Я прячусь в подъезде. Я вижу: горит
Все то, что плясало и пело.
Кому, Революцья, ты нынче жена?!
Под куполом, в мыке коровьем,
На палец тебе нацепил Сатана
Кольцо — еще теплое, с кровью.
…Господь, а я-то тут при чем?!.. Я сибирячка.
Я здесь укладчица, раздатчица, кухарка и прачка.
Могу твои рельсы мыть, Град Краснозвездный.
Могу в собачьей электричке жить ночью морозной.
Могу скопить двадцать рублей — и помолиться на мясо в столовой
Консерватории: а наверху — орган гудит, серебряно-дубовый!..
Я б пошла, в ноги поклонилась тому органу:
Пусти меня в себя жить!.. — да ведь мне не по карману…
А на улице — шапки мерзнут. Звезды с Кремля навеки сняли.
Коли меня убьют — кто вам споет о любви и печали?!..
…Это все перевернулось,
В Красный Узел затянулось:
Танки и броневики,
Мертвое кольцо руки.
Флаги голые струятся.
Люди в ватниках садятся
У кострища песни петь,
В сажу Космоса глядеть.
В черном мире, под Луною,
Под Звездою Ледяною
Кто-то хочет Первым быть,
Кто-то — с губ улыбку пить.
У костра стою. Старею.
Водку пью и руки грею.
Революция. Война.
В небе — мать моя Луна.
Лик тяжелый поднимаю.
На работу опоздаю.
Видишь, мать моя, — живу.
Видишь, — нить зубами рву
На тулупе, что залатан
Той заплатою крылатой,
Где перо к перу — года:
Здесь. Сейчас. И никогда.
Вот идет она по улицам Столицы, плотнее, суровей запахиваясь в платок.
Идет, жадно озирая московскую ночь вокруг, биенье снега — белым языком в черном колоколе, — буйство фонарей, карминную неоновую кровь, витрины, глядящие в веселое сумасшествие крутой военной поры алыми срезами заморских ветчин, россыпью богатых стекляшек на бархатах, бронзовыми слитками померанцев, широкоплечей модной одеждою, в которой человек тонет, теряется, как в лунном скафандре; идет по холодной Волхонке, по гудящей пустынно Моховой, где белокаменный Ломоносов улыбается толстым счастливым лицом навстречу диким временам, где не поют песни; идет по выгнутым хлебным подгорелым горбом Тверской, утоптанной солдатскими сапогами, проутюженной звероподобными танками, — а в воздухе еще висит, стоит, как масло в бутыли, глухой гул и запах смертной гари; идет по улице Неждановой, где малая сирая церковка дрожит и плачет и молится всеми подслеповато мигающими свечками за всех невинно убиенных, всех лежащих в земле сырой; идет по огненнокрылой, перепаханной и перекопанной Никитской, по лежащему навзничь кресту Никитских ворот с разбомбленным кафэ, с расстрелянной из танковой пушки милицейской будкой; идет по угрюмому Гранатному переулку с желтыми глазницами окон в темных черепах затихших домов — это ее дворницкая вотчина, этот участок она обжила, общупала матерински своими горячими руками в замызганных перчатках, вываливая из переполненных урн в контейнеры мусорную бижутерию одиноко погибающей земли; и, наконец, выходит на площадь Восстания — прямо под чудовищную пирамиду утыканной огнями высотки, властелинши и царицы Красной Пресни, где за каждым окном — любовь, за каждой дверью — ненависть. А на башне ее — золотая звезда, и за нее цепляются самолеты брюхом.
Ход по ночной Москве — служба и молитва Маринки, ее ектенья и литургия, ее Всенощная. Ей некогда ходить в церковь, ибо на ней, кроме огромного участка, еще висят шесть подъездов, что чисто вымыть надо, два двора, а тут еще предложила одна девка знакомая, крашеная-ряженая, место уборщицы на Савеловском вокзале, ну, она и покивала головой, согласилась, ведь война не война, а люди туда-сюда все равно ездят, а вокзал — дом родной: как его не обиходить? Только сына в доме родном она к груди не прижмет, а лишь цыганенку печенья купит да всю дворницкую зарплату в кепку безногого инвалида с гармошкой, что сидит у стеклянных дверей и горланит давние песни, вывалит.
Так стоит она напротив высотки, прищуром обнимая ее несчетные многоглазые огни, а к ней вдруг машина, мерседес заграничный, по ободу зальделого шоссе — чирк! Визгнула, остановилась. Лязг распахнутой двери — и прямо к ногам Маринки выбрасывают тело человека. Ругательство, дверца захлопывается, два красных огня исчезают в метели, а у ног Маринки остается лежать человек — недвижный, но стонущий: живой.
Маринка быстро садится на корточки перед ним. Берет его тяжелую голову руками, хлопает по щекам.
Он открывает глаза. Все лицо в синяках. Его долго и беспощадно били. Он не может говорить. Но все-таки говорит, выталкивая из себя слова:
— Помогите… мне. Я… умираю.
На уличных часах — полночь. На сгибе руки умирающего — тоже часы: красивые, с черным, светящимся разноцветными огнями циферблатом, они показывают неземное время… Маринка расширяет глаза, ближе наклоняет закоченевшее лицо! — они показывают ТРИНАДЦАТЫЙ ЧАС.
Да, воистину, на циферблате тринадцать отметин. Маринка содрогается. Храбро взваливает себе на плечи мужика — спасибо, что он легкий, как перышко, худой, даже под курткой ощутимо, как ребра торчат.
Тащит Маринка его на Гранатный, в свою дворницкую каморку. С трудом, запыхавшись, воздымает по лестнице. Бросает бесчувственным мешком на драный диван. Заваривает чай. Сурово, строго смотрит на него, лежащего. И он опять разлепляет спекшиеся губы и спешит сказать, быть может, последнее, сужденное:
— Баба… ты не сердись. Они меня… за дело били. Их… двенадцать, понимаешь?.. — двенадцать, а я… тринадцатый. И они мне… не… поверили. А я знал правду. Только я один. Понимаешь?..
Маринка напоила его чаем с ложечки. Под голову жесткую подушку подсунула.
А ночью он умер, выгнулся коромыслом в судороге и затих, льдом и Севером повеяло от него, и в эту минуту часы за стеной, у соседки, пробили тринадцать раз. А на кухонном ноже, смирно лежащем на колченогом столе, выступила кровь и капнула на клеенку, и потекла и пролилась на пол.
Маринка не слышала, как отошел Тринадцатый Апостол. Она не слышала выстрелов за окном, сирены, чьего-то истошного крика: “Пожар!” Она спала и видела сон — картину своего любимого, ту, самую большую и красивую, с розовой пантерой. И она кричала от счастья и пела во сне, хватая руками просоленный слезами, проколотый звездами и штыками фонарей воздух.
ПЕСНЯ, ПРОНЗАЮЩАЯ МРАК
Как живешь, мое Солнце?.. Не мерзни на рынке,
Грея руки вулканами рта,
Продавая свои заревые картинки,
На которых — Краса без Креста.
Иглы снега сшивают тебя с небесами.
Облепиху старуха сует.
Высыпаешь ты в рот себе желтое пламя —
В жадный, мною целованный рот.
Покупают твоих лебедей и купчишек
И грудастых нагих кобылиц
Вековухи с мордашками пляшущих мышек,
Старики с позолотою лиц.
Отдаешь за бесценок?.. — слюнявя, торгуя
Хрустко-злую, с мороза, деньгу —
Не продай только эту, пантеру нагую,
Что на снежном лежит берегу!
Колкий заберег. Снегом укрытая вишня.
Ярко-розовой шерсти пожар.
Над китайской зальделой рекой — еле слышно —
Катит лунный оранжевый Шар.
Небо в звездах горит. Негодяи-китайцы.
Ты скопировал их, помолясь
Меднотелому Будде. Метельные зайцы
Близ тебя с неба прыгают в грязь.
Этот розовый зверь! Поднялись над усами
Две нефритины чистой любви —
И глядела пантера людскими глазами,
И зрачки расширяла — мои!
На хребтине моей, розовея, вставала
Шерсть подлеска в закатных лучах.
Я испить леопарду язык свой давала —
Злой Юпитер — в морозных ночах.
Я, на кедре гнездясь, выжидала добычу.
Шел охотник. Я сверху — бросок
На загривок. Кусала. Кричала по-птичьи.
Кровь текла меж зубов на песок.
Порох тратили лучшие люди Китая,
Целясь в крест на рассветной груди.
Летописцы корпели: “Пантера — святая!
Смерть-Заря. Помолись. Подойди”.
Подходили. Юнцы. Старики. Лиходеи.
И на снег опускались, дрожа,
Пред нефритами гибельных глаз цепенея,
Как пред нежной сорожкой ножа.
И тогда перед страшной твоею картиной
Разом обняли пламя и хлад:
Если женщину мог так почуять мужчина —
Нет обоим дороги назад!
Все продай в нищете… Прокути все без меры!..
Сладким хересом девок залей!
Не продай только розовой зимней пантеры,
Только эту, ее, пожалей!
Я в Столице кручусь, простогривая кляча.
Руки в содовой тьме кракелюр.
Просьба: съезди в Дацан, помолись за удачу
Своей дурочки, дуры из дур.
Надрываюсь я здесь… А в ночи — шибко плохо…
Кости шепчут… И тело кричит…
А душа… — что душа?.. — до последнего вздоха
Под ребром твоим, слева, стучит.
Кинься в ножки ему, круглоскулому Будде.
Божьих сил для меня попроси.
Может, будет стрельба. Может, сгинут все люди
На железной и снежной Руси.
Но Китай остается! Амур и Дацаны!
Вся Сибирь — заржавелая шаль!
Завернись в нее, плачь, от любви моей пьяный,
Выплачь Будде всю кровь и печаль!
И на рынке не стой, будто гвоздь, вечерами,
Дуя, плюя в ладони мерзлот,
Поджидая, пока лебединое пламя
Пришлый ухарь купюрой сметет!
Понимаю: не жить троеперстьем да верой…
Хлеб да рыбу вкушал и Христос…
Не продай только цвета рассвета пантеру,
Что одна тебя любит до слез,
Не продай гор мерцанье, пыланье заката,
Медь рябины, метель во хмелю,
Звезд дитячьи глаза!.. —
…а коль буду богата,
Я сама… тебе хлеба куплю…
На улице, метя тротуар, она познакомилась со странными ребятами.
Они кучкой, робко, обступили ее, молодые еще совсем, салаги. Длинные немытые патлы свешивались из-под вязанных мамочками шапок. У одного парня на ремне, поверх куртки, висел в кобуре револьвер. Несмело потоптались они вокруг Маринки, молча орудующей метлой. Тот, что с револьвером, выдохнул
— Дворничиха. Слышь. Тут у тебя каптерка, где, ну, это, метлы твои и лопаты, теплая. Пусти погреться.
У спутников его блуждали по сторонам беглокаторжные глаза, нехорошая бледность вползала на впалые щеки. Маринка еще никогда не видела таких странных людей, дергающихся, словно ватные куколки на нитках, и жалко ей их стало. Она вынула из кармана ключи.
— Вон подвальчик. Откроете? Идите грейтесь. Но чтобы без дураков. Ага?
А когда она пришла с метлой наперевес в подвал, она увидела, что сидят они все по кругу и шприц с белесой жидкостью друг другу передают. Про наркоманов она слыхала. Но на ее родном Востоке, по обеим сторонам железной Транссибирки, где фонарные столбы, как свечи, стоят, теплясь за все скитальные души, отмаливая их, люди лучше стопарь опрокинут в холода, брусникой заедят, чем иглу себе под кожу всаживать! Она глядела на лица с разлезающимися, расплывчатыми глазами, на водяные текучие руки в веснушках старых подсохших уколов. Что делать ей?! Закричала недуром:
— Горим! Дом горит! Красные машины прибыли, тушить! Выметайтесь немедленно! Вас же заловят!
Платок сполз ей на плечи, она обводила горящими умалишенными глазами толпичку окостенело сидящих на заплеванном полу мальчиков. А ведь все это ее сынки. И ее сын — среди них. И его душа — реет над ним.
Главарь, что с револьвером, не успевший всадить в сгиб руки покривившуюся иглу, медленно встал с полу и вразвалку подошел к ней.
— Свяжите ее. Живо, — бросил парням, еще не охмуренным. — Сейчас ты у нас за истошный крик дозу получишь. Никакого пожара нет и не было. И ты тоже станешь наша, чем орать-то тут. Сева… вяжи! Игоряшка, шприц быстро! Раззявы!
Дергалась она, да все бесполезно. Распяли ее на каменном каптерском полу. Рот зажали. Она кусала влепившуюся в рот руку, как розовая пантера. “Тише, тише, девочка, — сладострастно шептал главарь, — сейчас кайф получишь, сейчас улетишь”. Боль насупротив локтя пронзила ее, горячее, масляное разлилось внутри, по сердцу и по ребрам, и разум помрачился. Ей казалось, что она летит в самолете без верха, в половинке бесхвостого, разбитого самолета, и не за что ей уцепиться, сейчас она свалится за борт, в смоляной Космос. А самолет все стремительнее, все неумолимей набирал скорость, и она закричала: “Помогите!” А самолет уже падал в пустоту, уже переворачивался брюхо кверху, измеряя чудовищным лотом — самим собою и ею, Маринкой — Бездну, и в этой Бездне была она одна, никого больше, ни людей, ни Бога, и немыслимый холод объял ее, она содрогалась крупной дрожью, до рвоты, от холода. Оранжевые гигантские колеса и круги катились перед ее глазами, превращаясь в круглые зубастые, светящиеся пасти глубоководных рыб. Тело ее разрезали, крошили и кромсали эти зубы-пилы, зубы-копья, и не было спасенья от них. Она кричала, кричала, извивалась. Она извивалась под чужими руками и губами, падая в Бездну в разбитом самолете, и ее разрывала надвое сила, родившая ее на свет и теперь ее у света отнимающая. Как страшно кричала она!
А когда очнулась — молчала, еле шевелила искусанными губами. Пустая каптерка. Метлы распушили ночные шевелюры. Лопаты, кайло, лом приткнуты в углу. Звон в ушах. Тошнота. Растерзанная одежда, раскиданная обувка. На полу — осколки ампул и записка:
“Мы еще придем”.
И она бесстрашно стала ждать их. А пока суд да дело, на почту надо пойти, ибо у нее нет ни чернил, ни клочка бумаги, ни конверта с дорогою маркой, чтоб в великую даль письмо послать.
МАРИНКА НА ПОЧТЕ. ТОРОПЛИВОЕ ПИСЬМО В СИБИРЬ
Милой ты мой художничек. Да тут идет Война.
Снега гудят. Костры метут. И я совсем одна.
Уборщицей вокзальною работаю теперь.
Дежурю сутки, сутки сплю. Зарплата без потерь.
Ох, люда нагляделась я в чаду вокзальных ламп!
Узнала я, как Бог силен, как человечек слаб…
Медвежья морда старика, жующего тарань.
Худышка — хризопразы глаз, бровь — вышитая скань.
Сидит старуха на узлах. Она века назад
Мужей отправила туда, куда глаза глядят,
Глядят слепые — в пол-лица — старухины глаза,
Глядят до смертного венца, куда глядеть нельзя.
А поезд бешеный ее загнал кнутом Господь.
И маслом вымазан — ко рту — ее ржаной ломоть.
И все бегут, когда табло в них плюнет час и век
И день, и поезд, и число, и остроклювый снег!
Я ненавижу снег… Его — лопатою скрести…
Его — кусать… над ним — рыдать, сжимаючи в горсти…
Поскольку — дворником еще горбачусь: за жилье…
Ночами ломом лед колю — вонзаю в ночь копье…
Работа эта, милый, — тьфу! — песок, лопата, лом,
Да закурю из рукава, присевши за углом
На корточки. Горит Звезда — табачной точки медь.
Кусаю губы и реву: устала. Легше смерть.
Да все здесь дорого, милок: жратва, питье, вино,
Повозки!.. Стоимость кольца — дерьмовое кино!..
Да я по кинам не хожу, а коль глотну вина —
Так это чтоб мне без тебя жизнь не была черна…
Вот так и прыгаю: вокзал Савеловский, потом —
Восстанья: урны вытряхать, крестить метлы крестом
Весь поседелый зимний путь, тугую грудь земли,
Где выживем мы как-нибудь, коль мы сюда дошли…
Не бойся, парень! Я держусь. Совсем с ума сойду —
Устроюсь в рыбный магазин я в будущем году.
Туда я в ватнике явлюсь: русалка вам нужна?
Разденусь. Пусть увидят грусть. И тело цвета льна.
Сама я подпишу контракт на тысячу рублей.
Сама в аквариум нырну. Бывало тяжелей.
Я буду плавать и играть. Холодная вода.
Прижмет пацанка нос к стеклу: “А тетя — изо льда?..”
Скорее воздуха глотнуть!.. Наверх!.. Один глоток!..
…Я выдюжу. Я как-нибудь. Мир, милый, — ох, жесток.
Одна работы. Швабра, лом. Бураны по плечам.
А на Савеловский — пешком. Стреляют по ночам.
Да, милый, здесь идет Война. Здесь Зимняя Война.
Да хоть бы подстрелили!.. — и — лежала бы одна
В ночи на снежной мостовой, в тени броневика —
На Малой Бронной, Моховой, с брусничиной виска.
Тогда-то Будда прилетит поплакать надо мной,
Безвестной дворничихой, над железною женой!
Тогда-то на похоронах напишешь мой портрет…
Прощай —
на множество —
целую —
здравствуй —
долгих лет…………….
Она ходила по грани, по лезвию. Лезвие было невыносимо острое, ноги ее, изрезанные в кровь, больше терпеть не могли. За ее спиной выросли черные крылья, в ночи отсвечивающие рдяными листьями и ржавью. В ужасе она бежала в церковь, крестилась. Танки стыли на улицах, около глухих подъездов, наставляли гусиные горла пушек в подворотни, в резко блестящие на закате окна. Она ходила по осыпающемуся краю пропасти, на дне которой лежали человечьи кости, а о стены ее, о камни ее бился голос, любимый ею, узнаваемый безошибочно: “Но имею… имею против тебя то, что оставила ты первую любовь твою”. Она, стареющая, длинноволосая сибирская баба, умеющая и приласкать человека, и побороться за кусок хлеба, и выругаться крепко и солено, поняла, что она покатилась кубарем, покатилась широко, колюче и безысходно, перекати-полем по снежной наледи, по бастылам декабрьской стерни: Град Краснозвездный накинул на ее жилистую шею петлю и туго затягивал ее, туже, еще туже.
Ей давали задания. Она выходила из подъездов, полуслепая от горя. Подстерегала того, кто должен был скользнуть мимо нее, кто напарывался на нее, как на копье. Вваливалась в дымные подвалы, где пели дикие песни, целуясь, изгибаясь, исходя стонами. Малевала белую маску смерти, ежели приказывали: “Подправь”. Перевязывала раны, если начиналась оголтелая перестрелка. Прижимала к себе и целовала расшибленные, рассеченные головы, лбы, виски — упавших с балконов, выбросившихся с последних этажей. Невероятно много людей убили себя на ее глазах. Она ходила меж их тенями, она давала теням пить из обгрызенной эмалированной кружки, рассказывала теням сказки, гладила у теней там, где была грудь, билось сердце. Ее знакомый народ, похожий на скопище черных Ангелов или белых мышей, звал ее: “Сердце”. Ее вознаграждали. Покупали ей иностранные шарфы, дорогие духи. Однажды она выпила пузырек духов, положила в рот кусок салями, криво и терпко усмехнулась и пошла прочь. Думала, ей выстрелят в спину.
Она забывала время, час, год, век, себя. Часто она думала, что уже умерла. По-прежнему поднимаясь в пять утра — где бы пробужденье ни настигало: в устланных леопардовыми шкурами анфиладных апартаментах, где холодильники “Сэлдом” стоят, набитые крабами и карбонатом, или в родной каморе с ободранными обоями в беспечный цветочек, — она шла на Восстания, на Гранатный, и вытащенные на снег из каптерки ее возлюбленные метлы и лопаты жгли ей руки.
Вкус сулемы и пороха оседал на ее губах — вкус преступления, и она билась, чтоб разорвать ржавые путы, закидывала локти, чтобы отодрать от шеи липкие лапы. Она знала теперь преступление на вид, на цвет, ощупывала пальцами шейные жилы, подмышечные впадины, аппендицитные швы преступления — а когда оно, преступление, рвало на себе волосы, умоляя простить и помиловать, она прощала и миловала его. И целовала. И приговаривала: “Не судите да не судимы будете”.
А на улицах лязгали затворы, рвались гранаты, погибали люди. И Маринка шла ночью на площадь, чтоб погреться у больших костров, которые жгли солдаты до утра, и протягивала мозолистые руки над огнем.
КОСТЁР НА ПЛОЩАДИ
Манежная!.. — Железный гусь родного танка
Так горло вытянул над астрою костра…
С лица — старуха, со спины — пацанка,
Я есмь — сегодня, в гроб легла — вчера.
Костер на Площади?.. — подбрасывайте ветки,
Земельные комки, снежки да кирпичи:
В проржавленной, чугунной стыли клетке,
Теперь — в золоченной — огнем горим печи.
А потому — без страха!.. — жгите смело
На Красной, Комсомольской — все добро,
Всю утварь нажитую, и живое тело,
И кумачи, и ржавь, и серебро!
В Конце Времен Бог отнимает разум
У всех, кто мысли слал острее стрел…
Так жги, Огонь, оранжевым совиным глазом
Ларь, полный рухляди, чтоб яростно горел!
Ага, столпились, сбились в кучу, небоскребы?! —
А жалко вас, домишки-дурачки…
Так плачь же, Ночь, у снегового гроба,
Пусть багрянеют белые виски!
Я тут малявка. Я лимитчица по найму.
Сподобилась, таща тяжелый куль,
Увидеть Господа, что плакал между нами
В газоне зимнем, в ожерелье пуль.
Он был босой и бритый, просто — лысый,
Он четки на груди перебирал,
Он всех крестил. И, к небу лик воздев по-лисьи,
Давидов он псалом перевирал.
Да, “Живый в помощи” гудел он, осеняя
Рычащую, горящую толпу!
Кричал: “Там, за Войною, я в воротах Рая, —
Кто косами мне высушит стопу?!..”
И руки я Орантой распахнула,
К босому на снегу — я подошла,
И танковым, и самолетным гулом,
И телом я живое тело обожгла:
Обнимемся, юродивый!.. Засвищут
Куски свинца, как и века назад,
И кровь моя — на кацавейке нищей,
И кровь твоя — на галифе солдат!
Молись!.. Хрипи дотла псалом Давида!..
И четки сыпь, и крест в запале рви!..
Война в России — древняя обида —
Что в мире мало Божеской любви.
А под снегами — огненные звери.
Медведи, волки — полымем: пожарища зубов.
Благословляю смерти и потери
Лишь от тебя, Огонь.
И от тебя, Любовь.
И я на Площади близ ярого кострища,
В обугленной тени броневика,
Молюсь: живой, богатой, мертвой, нищей —
Тебе, Огонь, и сердце и рука.
А искры в небо сыплют алою половой…
А пули сеют красное зерно…
Хоть Иоанн и рек: “В начале было Слово”, —
Да я-то знаю: Пламя.
Лишь оно.
Однажды ее пригласили на чай.
Она приоделась, если возможно было так назвать ее неуклюжие танцы перед облупленным зеркалом; она купила немудрящий подарок хозяевам — маленький, пузатый, аляповатый расписной чайник для заварки, самый дешевый, — она вышла в черную морось и захлюпала сапогами по воде — оттепель грянула, и все раскисло, как весною, в распутицу.
Перед самым подъездом, будто на нее косой поглядел, она поскользнулась, пошатнулась и упала. Шлепнулась здорово, ударилась лбом; на миг потеряла сознанье. Фаянсовый чайник разбился. Она вытряхнула осколки из сумки на снег. Усмехнулась.
Горячие слезы потекли по ее забывшему слезы лицу.
— Чайник!.. Чайничек!.. — плакала Маринка, шмыгая носом и утираясь ладонью. — Какой хороший!.. Ох, славный был какой!.. Был — загляденье…
Разбился кусок живой красоты. А друзья ее — семейная пара, дворники из Столешникова переулка — ничего об том горе никогда не узнают.
Нет, нет. Все не так. Не так все просто. В этом разбитии чайника что-то для нее самой заключалось. Словно осколки фаянса изрезали ее посеченное ветрами всей страны лицо. Словно бы разбилась, случайно, сама по себе, вся предыдущая великая жизнь, а новая не народилась, как ни хитри, ни призывай ее. Жизнь — не долыса бритый призывник. Жизнь — судия.
— Что лежишь-то на снегу, бабуська?.. — закричал парень в лыжной куртке, с жердями лыж на квадратных плечищах. — С сердцем плохо?.. Щас я врача…
Она обернула лицо, села на снегу. Взяла в руку горстку осколков. Протянула парню. Засмеялась:
— Разбилась!.. Видишь, разбилась!..
Парень поставил лыжи на снег. Пожал плечами.
— Эка невидаль. Сервиз, что ль, кокнулся?.. Посуда-то, сама знаешь, к счастью бьется!.. бабуська… э, да ты и не бабуська вовсе…
В фонарном золотом свете лицо Маринки стало удивительно красивым, — в тот миг она подумала о своем художнике.
— Знаешь, парень, — сказала она, поднимаясь из снега и отряхиваясь, — у меня жених есть. В Сибири. Очень красивый мужик. Умный, добрый такой. Высокий, борода, усы, руки как у Царя — загляденье! Бабник, правда. И выпить любит. А уж курит — как паровоз. Он у меня на кухне посидел однажды, так я не могла шторы отстирать, все от табака пожелтели. Эх, и любит он меня! Как душу свою. Вот он на ноги встанет, много картин напишет, разбогатеет и меня к себе возьмет. А чайник разбился? Это тьфу. Я все равно богаче всех.
Она говорила все это весело и яростно, прямо в лицо парню! Он попятился.
— Да я что тебе разве сказал… Да ты что… Да все у тебя хорошо… брось ты…
Маринка повернулась к нему спиной и пошла прочь от гостевального дома, ясно чуя, что чай остыл, и гости разошлись, и Ангел вострубил.
Неистовая тревога колотила ее.
Она твердо знала, что ее жизнь преломится — сухой веткой в руках мальчишки-хулигана.
ФОТОТЕЛЕГРАММА В СИБИРЬ
Я здесь живу как
Будто — сорванный флаг
Сколько кровавых собак
Сколько хрустальных драк
Я здесь живу вся
Огнями обнажена
Лошажьим глазом кося
Дыша вулканом вина
Я здесь живу зри
Пред танком стою как петух
И если крикнут “умри”
Умру я сразу за двух
Люблю этот дикий снег
Люблю этот наглый век
Я здесь живу как
Слеза из-под тяжких век
Картошка и медяки
В подземье — воски лепнин
Браслет на сгибе руки —
Берилл в мерзлоте равнин
Сибири тяжелый зрак
Шкуренку Москвы прожжет
Я здесь живу так
Как омуль вмерзает в лед
Тоскую: Байкала синь
Амура литая гладь
Господи не покинь
Неужто здесь помирать
Неужто мне никогда
Не зреть заревых зубцов
Торосов ольхонского льда
Тункинских ножей-гольцов
В Столице изведав яд
Боль пьянь фарцу да иглу
Перекрестясь назад
Пойду в родимую мглу
И вмиг расступится мрак
И звезд потекут стада
Я здесь живу так
Как ты не жил никогда
И настал день.
Белесое Солнце, зимнее Солнце лимоном выкатилось на дымное небо Града Краснозвездного, и день настал, как все дни на Земле.
В тот день сменилась власть и закончилась междуусобная война. И наступил праздник — наступил просто и буднично, как все праздники. Как будто все к праздникам так привыкли, прямо даже устали от них!
В этот день Маринка выбросила в снег, сдернув с рук, два своих памятных кольца — то, что надел ей ее первый молчаливый любовник, беспалый машинист, отец ее ребенка, и то, железное, жестокое воспоминанье о грубияне-мастере в горячем цеху. Она хотела расстаться со своим прошлым. Прошлого у нее больше не было. На картине, которую малевал далеко в Сибири ее любимый — она видела ее часто внутренним взором, — стояла лишь она одна одесную Отца, а по левую руку — он, раскосый чалдон, указывая пальцем вниз, на вихревые сплетенья несущихся в пространстве нагих тел. Одною рукою ее любимый указывал, а другой — держал меч ослепительно-голубого цвета. Внутренним глазам Маринки было больно, и она всегда, споткнувшись зрачками о меч, распахивала ресницы.
Голубой меч был — будущее.
В этот день в ее дворницкой каморке завыл домовой. Она ознобно съежилась, взяла себя за плечи, чтобы не трястись, и спросила тихо: “К добру или к худу?..” — “Уедешь далеко, далеко”, — тоненький голос провыл и заплакал.
В этот день давно, много лет назад, умер ее сын. И колокола звонили по всей Москве по нему одному.
И Маринка плакала и молилась.
В этот чудесный день она пошла на Красную площадь — праздновать праздник наступившего кратковременного мира вместе со всеми, уставшими от Войны; а так как ее праздник, самолучший, всегда был — работа, то она взяла с собою тряпки, ведро, древки для новых флагов, молоток — все, что могло на празднике сгодиться, — и весела она была.
И пели колокола, и бренчали на треснувших гитарах рокеры, и обгорелая Свобода казала народу свои подпаленные волосы, обугленные локти, истлевший подол. А около Музея Революции девочки в искусственных шубках водили хороводы.
В этот звенящий железом и льдом день, на Красной прекрасной площади, Маринка встретила человека, который с ходу сделал ей, еще молодой, не знающей себе цену бабе, предложенье, женился на ней, нищей московской дворничихе, и увез ее в дальнюю страну за Океан.
ПИСЬМО ЛЮБИМОМУ ТРАГИЧЕСКОЕ, ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
“…не рыдай Мене…” (Евангелие от Матфея)
…Уж и не знаю, как это случилось.
О, не рыдай ты по мне, не рыдай.
Чей это промысел, Божья ли милость…
Все мы ТАМ будем, гадай не гадай.
Все мы поляжем. Всем руки нам сложат —
Так — на груди. Вложат в них образок…
Только, покуда мой путь не итожат, —
Благословляю щеку и висок!
Бражника губ. Узкопалые руки.
В ягодах красок — палитру твою.
Как на холстину — разрезал ты брюки,
Загрунтовал… — я тебя узнаю…
Ну же, не плачь!.. тут стрелять перестали —
Хлынул народ, золоченый горох,
В ночь перекрестий, в площадные шали,
В уличной мглы индевеющий мох!..
Я побежала: я вместе со всеми.
Красная площадь — во флагах, в поту:
Соль да селитра — еда твоя, племя,
Порох-солярка-да-ложка-ко-рту!..
Праздник — тугими хвостами павлинов
Хлещут салюты в живот черноты…
Господи, горблю луженую спину —
Доски тащу, транспаранты, листы,
Чищу заклепки суставов железных,
Сцены-помосты в ночи возвожу:
Я воевала над пьяною Бездной —
Мир — по трезвянке — дыханьем стужу…
Армагеддонка я!.. праздников наших
Помню сатин, и железо, и сталь,
Шкалик да студень, да рыжую кашу,
Марша святого слепую печаль!
Я — как учили мя. Я — по старинке
Праздную день окончанья Войны:
Мальчиков сколь перебили… — поминки… —
Вот, чтоб не снились орущие сны,
Мыла на площади эти помосты,
Вешала флаги… — и он подвалил,
Этот мужик каланчового роста…
И по английски меня умолил:
“О, экскьюз ми!.. Ай вуд…” — Господи Боже,
Я понимала — до слова, дотла,
Что на жену его так я похожа,
Только жена его та умерла…
Я понимала — так четко, так странно,
Страшно до боли под сердцем (там нож!..) —
Что он художник из-за Океана,
И — я гляжу — на тебя так похож…
Он мне шептал: “Ты загадка… космитка…
Инопланетная Божия тварь…
Свет вкруг твоей головы — и под пыткой…
Я помолюсь тебе присно и встарь”.
Я — ему: “Брось ты!.. Я — Лунная дочка?!
В матушку я — круглотою щеки?!..
Ну, сумасшедшая выдалась ночка…
Парень!.. Оставь мне мои рюкзаки,
Тряпки и щетки, машинное масло,
Ведра-халаты, метлы черенок!..
Флагов пустынных песок желто-красный,
Флагов полярных метельный песок!..”
А он к ногам моим, милый, валится,
И все кричит? “Ты из Космоса, так!
Я увезу тебя, Русскую Птицу!..”
Юбку сгребает в железный кулак…
Бьюсь я: “Оставь мне грязь звонких вокзалов,
Соль площадей… церкви, полные свеч,
Как огурцы — семян!.. в стужу — причалы
По Ангаре, где во землю мне лечь…”
Бьюсь, вырываюсь, — да держит он люто.
“Нет, ты узнаешь мир”, — густо хрипит…
Небо над нами взорвалось салютом.
И я узнала, как сердце кипит.
Ближе клонюсь. По-английски ни слова.
Да и по-русски — немая, как мышь,
Мокрая вся. Я целую чужого.
И наступает Великая Тишь.
Да, я целую его в знак согласья —
Да не губами, а медным крестом:
Зреть Океаны, красу, безобразье,
Видеть, как в линзу, что грянет потом,
Знать, как ругаются грузчики Фриско,
Стыть на аляскинских лисьих ветрах,
Гладить японскую девочку-киску
С красною лентой в седых волосах!..
Только не плакай!.. к тебе я прибуду —
Круглы планеты!.. — с другой стороны,
С той, оборотной… я верую в чудо,
В Господа нашего, в вещие сны…
О, не рыдай мене! Я ведь Маринка.
Я ведь и так от тебя — ни на шаг.
Я ведь твоя — с омулями — корзинка,
Твой забайкальский табачный пятак…
Видишь, художник заморский вцепился.
Он там напишет… — во славу твою! —
Всех, кто в меня по дорогам влюбился,
Всех, в ком тебя я опять узнаю!
“You are my wife”. — он подземно рокочет.
“Ты мне жена”, — как по-русски горчит…
Горечью ярые свадьбы хохочут.
Горечью пламя поминок стучит.
Горечью — жирною масляной краской —
Твой поцелуй в мерзлоте мастерской…
………………………………………………………………………
…Господи, жизнь-то — подраненной лаской.
Господи, век-то короткий какой.
Господи, Ты же прости, — уезжаю.
Я же скиталица. Сердце, вперед.
Крылья зенит разрезают ножами.
Реет, где хочет, мой дух. Не умрет.
Я дочь Луны. Про планеты — все знаю.
Тайну великих орбит берегу.
Вижу: в конце всех дорог — двери Рая,
И в них стоишь ты, босой, на снегу.
Чемоданы собирать ей было — один момент: ведь никаких чемоданов-то и не было. Так, сумчонка, еще узел, баул, еще старая сумка, две сетки: что в них? Пожитки? Вся любовь? Вся ее страна?
— Из ит олл? — спросил ее суженый: “Это все?..”
Она никогда не видела самолетных билетов и веселилась,как дитя, рассматривая их.
Он с удовольствием швырнул к ногам Маринки, сидящей в каморке меж баулов, дорогие блестящие платья, из парчи, из тончайшего шелка, с люрексом, с бисером, нашитым на складки и кокетки:
— Ит из дрессиз фо ю… олл фо ю!
Маринка накидывала на себя роскошные ткани, смеялась.
Вот уж праздник так праздник оказался! И думать она не могла!
А голос пел внутри нее:
“От страданий не уедешь никуда, ни за Океан, ни за Полюс…”
Изменившись лицом, она встала на колени. В открытую форточку в каморку повалил снег. Маринка протянула руки к родному снегу. И ее внезапный нареченный, раскрыв глаза, смотрел и слушал, как она поет Пьету свою:
— Прощай, погибающая, погибшая страна. Неотмытая, неотстиранная, в заляпанном фартуке! Прощай, девочка, ласточка, и не сердись шибко на меня, я ведь тебе была хорошей дочерью. Я ведь все про тебя знала, милая страна, и что ешь на обед, и что робишь, и с кем спишь и на каких простынях — в цветочек заволжских полей, с белизною архангельских снегов… Ты умираешь, ты стонешь и зовешь на помощь, ты не видела в мире любви, всегда били тебя, к стенке ставили тебя, бедную! И в ночлежках и в бараках ночевала, и ноздри раздувались при запахе баланды… Плачу, плачу над тобой! Потому что знаю, что тебя — не спасти! Потому что гибель — близко, и смертная твоя постель, и сиделки идут с пузырьками и склянками, а что толку! Выгибаешься к небу дугой! Люблю твои холодные реки, широкие объятья ледяных рук их, затянутые ряской ветра озера и озерца, бессонные запавшие глаза северных морей, вязаные оренбургские платы январской тайги — от Ачинска до Хабаровска!.. — костистые монгольские надменные лица твоих голых и гордых хребтов… Вижу тебя всю! Лечу над тобой! В черном, синем небе летя, вижу тебя внизу, слезный земляной шар, сгусток кровавой глины, чистого снега, угольной пыли, острой душистой хвои! Прощай! Я люблю тебя. Я лечу над тобой. Я обнимаю тебя. Не умирай! Господь милостив. Дождись меня! Дождись меня всегда, даже если я не вернусь! Держу нежное лицо твое, моя земля, в руках, целую его, плачу, плачу над тобой всеми реками, всеми морями и ручейками твоими, всеми осыпающимися в сугробы звездами Якутии, всем самоцветным изарбатом полярного Сиянья, всей серебряной бурей громокипящего Енисея, всеми малахитами каменнолицего Урала! Я уже мать твоя, а ты — дочь моя, и, распятую, с обвисшими членами, со вспухшим старческим животом, с беззубым, скорбно улыбающимся ртом безмерно люблю тебя, дочь моя Россия, только живи! Только живи! Не умирай…
Изумленно глядел человек из-за Океана, как дрожащие руки Маринки гладят пустоту, как прикасаются ее залитые слезами губы к незримой любимой плоти, и думал, что вот лучше пускай они опоздают на рейс в Шереметьево, но пусть сейчас она, прощаясь, целует прогорклый коммунальный воздух, согнувшись, касается потным лбом холодного настила родных половиц.
ЧУЖБИНА
Мне холодно. Свернусь червем в бочонке — ледяные доски.
В слепящей мгле — ползу кротом. Ношу чужой тоски обноски.
Сабвей да маркет — вот мой дом. Чужой язык — на слэнге крою.
Плыву в неонах — кораблем. В ночи Манхэттэна — Луною.
Я, грязная!.. — сезонь и шваль, я, лупоглазая совища,
Измерившая близь и даль тесово-голым телом нищим,
Глодавшая кусок в дыму на станции, в мазутной фреске, —
Я — здесь?!..
Уж лучше бы в тюрьму. В ту камеру, где пуля — резко —
Из круглой черной дырки — в грудь.
Ору я песню! “Крэйзи”, — цедят.
Я выживу. Я как-нибудь. А мне во шрамы — роскошь целят.
Я русская! — кричу, воплю, в поту, во краске, вздувши жилы, —
Я русская! — смерть проколю крестом-копьем в груди могилы, —
Я русская!.. — нам воевать — что хлебы печь!.. а печь нам хлебы —
Что плоть нагую целовать в сухом снегу, под дегтем-небом!
А целовать — стрелять нам в рот. Из автомата и навскидку.
А смерть — то океанский Плот. Переплывем судьбу и пытку.
Я русская!.. — а вы мне — сок на мельхиорах с вензелями,
Машинный видеобросок, постелей золотое пламя?! —
Да я на шпалах проспала! Рубахи из крапивы шила…
Да я из кружек дым пила, крошеным углем хлеб солила… —
А вы с ухмылочкой-змеей — корсаж мне кружевной, чулочки
Лучистые?!..
…Подвал. Зимой
Не топят. Лопаются почки
Промерзших окон. Свечи. Гарь. Обмажусь здесь родною сажей.
Перекрещусь на киноварь горящей хвощевидной пряжи
Кос Магдалины — на ночной иконе Брайтона-Распятья.
Я русская. Отдайте мой заплечь-мешок, рванину-платье.
Здесь льют за шиворот коньяк. Здесь в баб втирают сливки, мяту.
Хриплю кондовый свой Кондак: не быть Спасителю распяту
В застольях — устрицами, ни — на принтерах — гвоздями клавиш
Компьютерных!..
Горят огни.
Огнями Новый Свет восславишь.
Уйду отсель я. Улечу. Сорвусь. Путь выгрызу зубами.
Но прежде мир я излечу. Юродивая, меж гробами
Пойду — и выну из земли, из тьмы врожденного безболья
Людей: о, снова — для петли! Для ветра в грудь — во звездном поле!
О Поле Белое мое. Хлад. Полночь. Рыбы ножевые.
Кривые рельсы. Звезд белье. Люблю вас. Мертвые. Живые.
Люблю. Не надобно даров, шелков, и золота, и смирны,
И ладана. В ночи миров — мой Лунный Лик, сосуд кумирный.
Прости мозоли на ступнях. Прости сермяжную гордыню.
Я русская. В ста языках означен взор морозный, синий.
Оборван срок вкушать, жиреть. Ножом техасским вскрою жилы:
О, ешьте, пейте. Завтра — смерть. Но не в чужбинную могилу
Ложусь — а в дивный краснозем, под пух снегов, под лапок грачьих
Кресты!
Чужой, роскошный дом,
Прощай. Прости мой лай собачий.
«И загорелся в Граде Большое Яблоко самый высокий дом в пятьдесят этажей. Пожар полыхал, как сто чудовищных елей в Рождество. Кричали люди, задыхаясь в дыму. Копоть залила черным брачным вином полнеба. И рассказывали потом люди, как по лестницам горящего зданья носилась, как сумасшедшая, с висящими вдоль лица седыми волосами, высокая женщина и выносила из дыма и огня женщин, мужчин, стариков, детей, собак и кошек. Огонь не мог ожогами коснуться ее, и так много людей она спасла в тот день;
и еще рассказывали про ту женщину, что, когда буря в Океане застигла маленький корабль, то она, будучи среди плывущих, — на том корабле она в сезон служила поварихой и готовила вкусные русские блюда: пельмени, расстегаи, кулебяки, — встала на носу суденышка, раскинув руки, и приказала буре утихнуть; все рассмеялись, несмотря на панику и слезы, и многие подумали, что вот с ума повариха сошла; а буря и вправду начала утихать; а за теми, кого смыла волна и кто бессильно, разевая в крике рот, барахтался в Океанской пучине, она сходила по висячему трапу с палубы корабля и шла по водам, легко ступая, и волны мягко качали ее, и протягивала она тонущим сильную руку свою; и спасаемые слышали, как по-русски ласково с ними говорила она;
и летел однажды большой самолет из Града Большое Яблоко в Град Золотого Океана, и вышло так, что подломилось у самолета крыло, и стал он падать; и много людей тогда завизжало от немыслимого страха в брюхе самолета, а иные от страха помрачились рассудком; и тогда вместо стюардессы вышла к обезумевшим людям рослая женщина с поседелыми волосами и темными полыхающими огнем глазами, и стала она говорить с людьми на чужом языке, и многие узнали, что это русский язык; и так она ласково и властно утешала народ, что многие поверили ей, что спасутся и самолет сядет на землю, а не разобьется; и так оно и случилось, самолет благополучно сел на брюхо на холодное снежное плато в далеких горах;
и везде по земле, где только заболевали тяжело или умирали люди, появлялась та же высокая женщина с морщинами в углах ярких глаз, со свободно летящими волосами, тронутыми проседью; она была широка в плечах, с костистыми руками, и большая сила тепла и любви исходила от нее; и тяжко больные или умирающие, завидев ее близ своего ложа, открывали глаза, освещали улыбкой уста, уже тронутые тлением, и восставали, возвращаясь к жизни; и было доподлинно известно, что она воскресила из мертвых слепого негритянского мальчика, старуху из Балтимора, продававшую за бесценок вязаные кофты, великого бегуна из Атланты, что упал на финише с разорвавшимся сердцем, и еще много всякого народу; и никто не понимал, что она говорит и делает, а только мертвые вставали с одра и, плача, благодарили ее, а она целовала их, крестила по-православному и плакала тоже, не стыдясь обильных слез своих».
Маленькая девочка, закутанная в простыню, стоящая перед зеркалом в огромной холодной пустой комнате, оторвала свое лицо от книги. Страницы книги еще пахли типографской краской, но восковое горячее, от свечи, пятно уже расплылось там, где девочка читала. В зеркале отражались: белеющее снеговое нагроможденье простынки, обнимающей малышку, корзина с клубками шерсти, чисто вымытые доски пола, кованый сундук, мотороллер у стены, ковбойское лассо, мертвой змеей висящее на гвозде, картина — плохая, ободранная копия Констебля. Жесткая широкая, как угрюмое плато зимой, кровать не попадала в поле зренья зеркала. Маринка в длинной, до пят, кружевной ночной рубахе подошла к застывшей солдатиком перед зеркалом девочке, закрыла книгу, обняла девочку за шею и поцеловала.
— Все. А теперь спать. Все, что здесь написано, — это правда. Только я не считаю себя лучше всех. Или сильнее всех. Есть Бог, и это Он создал меня такой, а тебя — вот такой. Иди спать. Господь с тобой.
Она легким шлепком отправила девочку в постель. Весь дом, как и комната, был огромен и пуст, и только ледяной океанский прибой нежно шуршал за кирпичной кладкой стены, терся губами и животом о каменные локти берега. Маринке не надо было смотреть в окно. Она и так видела все. Заиндевелые кочки и редкие пучки высохшей травы вдоль по худым телесам распластавшихся близ Океана равнин. Играющие, надменные звезды над заливом. Гранит могильных плит за валунами. Вышку метеостанции и кошачий глаз маяка — там, на тонком мысу. И их одинокий дом видела она как бы с небес — громадную, нетопленую, заброшенную усадьбу, где наверху, под самой крышей, в мастерской мужа она оставила все, как было. Ничего не тронула.
Сонный голосок донесся с кровати, обложенной грелками и горячими утюгами:
— Тетя Мэрилин… а папа скоро приедет?..
Маринка неотрывно глядела в высокое окно на ледяное безмолвие приокеанской равнины, на лениво шевелящиеся стальные воды залива, на сруб колодца: вкусная была подземная влага из ведра, она ею обпивалась, упивалась — и думала сумасшедше: вот эта водица тайными ходами в коре земли из Байкала сюда перетекла и выбухнула артезианской кровью, серебряной магмой — прямо под чужие, искристые улыбки созвездий Нового Света…
— Спи, дружочек. — Она закрыла невидящие, наполнившиеся кипящей лавой глаза. — Он не скоро приедет.
Помолчала. Добавила:
— Но он вернется сюда… я тебе обещаю.
Три, четыре секунды, пять… Девочка засопела, канула камушком в сон. Маринка, метя холодный пол длинным подолом рубахи, подошла к окну. Океан, звезды, ночь. Да, конечно, ее муж вернется в этот мир. Но в другом обличье. Может, он станет кедром, одним из могучих кедров Хамар-Дабана, и вьюги запоют вокруг него тонкую волчиную песнь? В чужой стране, не зная и двух слов на чужом языке, она стала для людей наподобье монгольского обо-бурхана — небеса налили каждую ее жилку новой силой, люди тянули к ней руки, и она излечивала их от всех скорбей, Лунная Дочь. Но даже все ее искусство, собранное и зажатое в крепкий кулак, в единый обжигающий ком ее сердца, не помогло бы воскресить одного человека, вернуть его в одночасье. Что взято, то взято. Чему суждено вернуться, то возвращается.
Ее лоб обжег плещущий холод мысли о “никогда”. Девочка, дочка ее ушедшего навсегда мужа, тихонько спала. Завтра она отвезет ее к тете Мэрфи. Завтра… Тяжело ступая, она пошла по пустому дому, стала обходить дом весь, до последней капельки, до крошки, до пыльного угла, до закута. Проходила мимо кладовок, где мирно поблескивали банки варенья, ею наваренного, кланялась сундукам, креслам. Касалась пальцами подоконников, холщовых штор. Добрела до темной комнатенки, увидела икону, висящую напротив окна — она же сама ее и повесила, когда они стали жить здесь, в этом пустом доме на берегу ледяного залива.
Маринка упала перед иконой на колени. Все закружилось перед ее глазами. Из черной обшарпанной доски выпирало ребрастое, золотое тело распятого Христа, и рыжекосая Мария Магдалина обнимала и целовала Его кровоточащие ноги, рыжие хвощи ее волос струились по продырявленным ступням. Маринка снизу вверх, подняв залитое слезами лицо, глядела на Марию Магдалину. У нее не было сил молиться. Она прошептала: “Вернусь”, — и упала на пол. Кружева рубахи разбросались по крашеным доскам снегами. Лоб ее стукнулся о половицу. Звезды Нового Света глядели в окно чисто и строго на тело вдовы, распростертое на полу в лунном мерцании.
ВОЗВРАТ В АРМАГЕДДОН
Я вернулась. Гляди меня в блеске моем.
Я стою в черном рубище. Площадь безмолвна.
Полон птиц и лучей золотой окоем.
Брызжут вьялицей неба соленые волны.
Эти синие волны. И голь-нищета.
И лабазы-склады. И железные крючья
Диких рынков. И суп из тебя, лебеда.
И — нарвать на корзины кровавые сучья.
Из бетонных скворешен — рояль-воробей
Прочирикал: “На помощь!..” Стальные аркады.
По горжетке проспекта ползет скарабей
Ледяного автобуса в радуге смрада.
Ах ты Господи. Град ты мой Армагеддон.
Возношусь я над площадью, — глыба. Царь-баба.
Жрица Ветра, которым хребет опален
У рычащих и сильных. У жалких и слабых.
Я спала под забором. Я зрела миры.
Суп хлебала паршивый с обходчиком в Канске.
Я задворки видала, дворцы и дворы.
Ухо грела я псу подзаборною сказкой.
Так работала истово, что из горба —
Что ни ночь, надувались бугры кровяные —
Стали крылья расти. Задрожала судьба.
Засияла слеза. И зрачки ледяные
Расширялись, вмещая весь мир — до конца.
Запах крови и пороха. Меда. Мазута.
Я бродяжкой плыла. Я Луною лица
Освещала сраженья. Стояла разутой
Над тибетским ручьем. Воскрешала солдат,
Что лежали на копьях костей Гиндукуша.
На кладбищах пылала. И сыпала яд
Ярой жизни — в застылые мертвые души.
Облетела я все, что могла облетать.
И, дрожа, поднималась я выше и выше
В дикий холод черненый, в морозную гать,
В ночь, где Лунная Мать мне в затылок задышит.
Град мой Армагеддон. Зри простую меня.
Мне довольно на жизнь платья грубого, корки,
Кружки чистой воды. Да лисенка огня.
Да зимой — босиком, коль стончатся опорки.
Роскошь выпила всю — и утерла я рот.
От снегов — как от спирта — пунцовеют щеки.
А ладони горят: я лечила народ
От смертей, от скорбей, от судеб одиноких.
А сама — одинока и нища, как встарь.
Что молчишь, блюдо Площади?!..
…Ветер катает
Пса — по наледи — яблоком. Ярость и гарь.
За еду по руке людям горе гадает.
Град ты Армагеддон. Слушай. Множество бед
Еще будет. Обрушится. Из-под развалин
Крики выхлестнут плетями. Но — смерти нет.
Погляди мне в глаза. Они жарче проталин.
Свет исходит из них, затопляя простор.
Разливается ширью, полями и льдами,
И секирами рек, топорами озер
Рубит смерть, рассыпая двуострое пламя.
Смерти нет. Говорю тебе. Не проверяй.
Пальцем мне не кажи на багряные доски
В дырьях слез — или пуль?! — на кладбищенский Рай,
Панихидных свечей заплетенные коски.
Хороните и чтите вы мертвых своих,
А они все — над вами. Летают над вами!
Страшный Суд наступил. Это — прямо под дых
Вам удар. Это — огнь меж нагими руками.
Жизнь восстанет из гроба. Возьмет вас в полет.
Вы узрите стальные и нежные лица.
Страшный Суд наступил. Зри, град Армагеддон.
Мне осталось в пурге за тебя помолиться.
За железные стены и лавки, за смоль
Грязноплетных вокзалов, за бани, где мылом
Черным мылась я присно!.. — за снежную моль,
За сверкание пуль, настигающих с тыла,
За скелетные ребра ухватистых рельс,
За вонючий сандал подземельной резины… —
За людей твоих: жизни осталось в обрез,
Пусть толкают, сопя, в сундуки и корзины!
И еще помолюсь — за тебя, Человек,
Что, во недрах Сибири хрипя табачищем,
Все рисует — ах, копотью на ясный снег
Дорогого холста, — да все ярче, все чище,
Все жесточе!.. — рисует… — а что?..
СИНИЙ МЕЧ.
СИНИЙ МЕЧ ГЭСЭР-ХАНА, ХОЗЯИНА СТЕПИ
И СНЕГОВ И ПЕСКОВ. В НИХ И НАМ СКОРО ЛЕЧЬ.
И ПОКИНЕТ ДУША ОПОСТЫЛЫЕ ЦЕПИ.
И горит синий меч на широком холсте.
И смеется художник, вдыхая пожары
И дымы, зря меня на последнем Кресте
Белой Площади.
В зеркале Лунного Шара.
И с обратной, с потемной Луны стороны,
В черном зеркале мира — любимого зрю я
И шепчу, вся в слезах: “Дорисуй. Мы должны
Разрубить мир на падаль и душу живую”.
И молчит, весь чугунный, град Армагеддон.
Целованья не даст грозной дочери блудной.
Да сезонка Маринка не шла на поклон
Никогда под Звездой, коей лоб опален,
Никогда под Луной, медноликой и чудной.
Как жить ей, девчонке, было?
Как жить надлежало?
Умирая, идти, или живя, помирать? Куда простирать руки? Тянуть дрожащие пальцы? Ее страна, целованная ею, лежала перед ней, обнаженная. Сколько лет прошло с тех пор, как Маринка пела ей Пьету? Много? О да, очень много. Путешествуя с мужем по широкому Новому Свету, леча и спасая людей, она многое увидала, многих благословила. Одна ее мечта не сбылась: не смогла она японской девочке-гейше вплести в косу красную ленту. Не смогла.
Отзвонили торжеством часы свидального аэропорта. Уплакалась Маринка всласть на стоянке такси. Стояла и ревела Маринка белугою перед пресветлыми ликами веселых таксистов, перед диким любимым народом с баулами, кошелками, саквояжами. После тягот перелета, шатаясь, стояла она посреди родного града Армагеддона, и, как много лет назад, она была сирота, без кола без двора, и не знала она снова, где переночевать, к чему сильные руки приложить. Жизнь — это беда, да! Большая беда! Как из нее выпутаться?!
Она стояла — высокая, как каланча, еще и на десятисантиметровых каблуках ярко-розовых, складчатой нежной кожи, сапожек; поседелые волосы убраны под песцовую индейскую шапку Аляски; длинное манто из голубых серебрящихся норок распахнуто — пусть метель бьет в грудь, целует голые, в вырезе люрексового платья, ключицы! — ослепляя народ, ослепительная, стояла и плакала она, размазывая ладонью слезы по щекам, и народ, обтекая ее, таращился на нее, дивясь, недоумевая, а кое-кто и застывал восхищенно.
— Ну что, — сказала она себе громко, слизывая соль слез с губы, — пешком в Сибирь-то пойду. Только бы он был жив еще, далекий лубочник мой. И ты, старик в лисьей шапке из родного Дацана.
Снег валил густо и сразу таял под ногами. Грязь расплывалась потоками, хлюпала под шелестящими шинами. На западе сгущались комки и клубки туч, и фонари били в серую сутемь молниями и стрелами. А самолеты гудели, гудели мощно и беспощадно.
Маринка наклонилась и резко стащила с ног розовокрылые гармошки сапог. Бросила их в грязь. Автобус взвыл сиреной. Мужик с двумя чемоданами наперевес шарахнулся. Голубое манто полетело вслед за сапогами, упало на капот драненького “Москвича”, прощально обхватило машину голубыми рукавами. Шарф Маринки взвил ветер, прямо к дымам серых туч поднял. Изумленный народ зароптал, засвистели пронзительно мальчишки. А Маринка пошла босиком через площадь, пошла, повернувшись спиной к мертвому свету заката, лицом — к грядущему восходу: пошла на Восток, пошла тем же путем, каким прошла в давние поседелые годы, чьи виски замел ветер-сарма, зацеловал волчий сиверко.
И в долгом пути она зрела весь свой Потерянный Мир — все деревянные и стальные шпалы меж селедочно-соленых рельс, все мерзлоты, не пробитые горячим кайлом, все станции, где в буфетах вокруг кругов колбас мухи реяли, как флаги, всех баб с черемшою на оснеженных бетонных платформах, с горячею картошкой, что держали они в робких горстях, продавая, на жалких жестяных тарелочках; все дымы на заимках, все срубовые чернобревенные избы, все отлоги и перелески, все серебряные кольца озер и витые браслеты рек, все водонапорные башни и грязные, в потеках, стены школ и больниц; все поющие на ветру кедры и пихты и терпкий можжевельник — а сколько ночей в чужих сердобольных домах и на утлых холодных вокзалах переплыла она, — несчислимо!
Счет дням, ночам, зимам, снегам потеряла она. И когда в распадке, вдали, мигнуло ей густо-синее и распахнулось слезно-широкое, она сперва и глазам не поверила: так долго и мучительно, так радостно, босиком, болея, хрипя и кашляя на беспредельном ходу, шла она, что ей часто казалось — не дойти, не доползти. Но Сибирюшка сжалилась над ней, над сезонкой своею, и выплюнула ее шкуркой от железного кедрового орешка прямо под ноги Великому Озеру.
КОСТЁР НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА
…Целую очами юдоль мерзлоты, мой хвойный Потерянный Рай.
Полей да увалов стальные листы, сугробной печи каравай.
На станциях утлых — всех баб с черемшой, с картошкой, спеченной в золе,
И синий небесный Дацан пребольшой, каких уже нет на земле.
Сибирская пагода! Пряник-медок! Гарь карточных злых поездов!
Морозным жарком ты свернулась у ног, петроглифом диких котов…
Зверье в тебе всякое… Тянет леса в медалях сребра — омулей…
И розовой кошки меж кедров — глаза, и серпики лунных когтей!..
Летела, летела и я над Землей, обхватывал взор горький Шар, —
А ты все такая ж: рыдаешь смолой в платок свой — таежный пожар!
Все то же, Сибирюшка, радость моя: заимок органный кедрач,
Стихиры мерзлот, куржака ектенья, гольцы под Луною — хоть плачь!..
Все те же столовки — брусника, блины, и водки граненый стакан —
Рыбак — прямо в глотку… — все той же страны морозом да горечью пьян!
Грязь тех поездов. Чистота тех церквей — дощаты; полы как яйцо,
Все желто-медовы. И то — средь ветвей — горит ледяное лицо.
Щека — на полнеба. В полнеба — скула. Воздернутой брови торос…
И синь мощных глаз, что меня обожгла до сока пожизненных слез.
Снег плечи целует. Снег валится в грудь. А я — ему в ноги валюсь,
Байкалу: зри, Отче, окончен мой путь. И я за тебя помолюсь.
Култук патлы сивые в косу плетет. Лечила людей по земле… —
Работала яро!.. — пришел мой черед пропасть в лазуритовой мгле.
И то: лазуритовы серьги в ушах — весь Ад проносила я их;
Испод мой Сибирской Лазурью пропах на всех сквозняках мировых!
Пургой перевита, костер разожгу. Дрожа, сухостой соберу
На Хамардабанском святом берегу, на резком бурятском ветру.
И вспомню, руками водя над костром и слезы ловя языком,
И красные роды, и дворницкий лом, и холм под бумажным венком,
И то, как легла уже под товарняк, а ушлый пацан меня — дерг! —
С креста сизых рельс… — медный Солнца пятак, зарплаты горячий восторг,
Больничье похлебок, ночлежье камор, на рынках — круги молока
Январские… — и беспощадный простор, дырой — от виска до виска!
Сибирь, моя Матерь! Байкал, мой Отец! Бродяжка вам ирмос поет
И плачет, и верит: еще не конец, еще погляжусь в синий лед!
Поправлю в ушах дорогой лазурит, тулуп распахну на ветру —
Байкал!.. не костер в снегу — сердце горит, а как догорит — я умру.
Как Анну свою Тимиреву Колчак, взял, плача, под лед Ангары, —
Возьми ты в торосы, Байкал, меня — так!.. — в ход Звездной ельцовой икры,
И в омуля Ночь, в галактический ход пылающе-фосфорных Рыб,
В лимон Рождества, в Ориона полет, в Дацан флюоритовых глыб!
Я счастье мое заслужила сполна. Я горем крестилась навек.
Ложусь я лицом — я, Простора жена — на стылый опаловый снег.
И белый огонь опаляет мне лик. И тенью — над ухом — стрела.
И вмиг из-за кедра выходит старик:
Шьет ночь бороденка-игла.
— Кто ты?..
— Я Гэсэр-хан.
— Чего хочешь ты?
— Дай водки мне.
…где там бутыль…
— За пазухой, на… — звезды сыплют кресты
На черную епитрахиль…
И он, запрокинув кадык, жадно пьет, а после — глядит на меня,
И глаз его стрелы, и рук его лед нефритовый — жарче огня.
И вижу: висит на бедре его меч, слепящий металл голубой.
О снег его вытри.
Мне в лед этот лечь.
Но водки я выпью с тобой —
С тобой, Гэсэр-хан, напоследок, за мир кедровый, серебряный, за
Халат твой монгольский в созвездиях дыр, два омуля — твои глаза,
За тот погребальный, багряный огонь, что я разожгла здесь одна…
За меч, что ребенком ложится в ладонь, вонзаясь во Время без дна.
Слегка подмораживало. Но зима была теплая, слишком теплая для этих краев.
Чтобы лучше, горячее и больнее чувствовать снег и землю, Маринка сбросила чулки, чудесные чулки из розовых нитей, и так шла, обжигая пятки снегом, по хорошо утоптанной тропинке, вперед, чуть щурясь, на черную, букашкой-таракашкой, точку, четко сидящую на тонко вытянутой проволоке горизонта — зданье с трехъярусной крышей: будто на него надели сначала одну шляпу, большую, потом еще одну, поменьше, потом еще одну… и поля тех шляп заворачиваются вверх, задорные такие, как углы губ в улыбке. Улыбался дом ей. Звал к себе. И шла она к нему, к улыбчивому спокойному дому, и, если бы кто издалека на нее посмотрел, то увидел бы, как от ее затылка, из того места, где у человека находится Третий Глаз, прямо в небо, выгибаясь гигантской параболой, уходила, тянулась тончайшая серебряная нить.
Так шла она, привязанная к небу драгоценной нитью, и нить не давала ей упасть, умереть, извериться, ожесточиться, уснуть, свалиться в снег, затихнуть. Нить держала ее, вела, страховала Божьей лонжей. Распадки с торчащими кустами промерзшего багульника шкурами горностаев-подранков стелились перед нею. Сопки поднимались в медленном хриплом дыхании, круглились печальными огрузлыми грудями старых, сильно поживших, много рожавших женщин, белозубая метель покусывала соски-всхолмия. Тропа вилась, раскручивалась застиранным длинным полотенцем. Маринка шла, окуная в ветер голые руки. Чья-то сердобольно — на бродяжку — наброшенная, драная шубейка из сумасшедшего сибирского зверя — как бежал он, бедолага, по тайге, как блестели слезные бусины его глаз, когда его убивали! — моталась на ней маятником, распахивалась. И серебряная небесная нить моталась на ветру, но не рвалась, натягивалась только. И Солнце брызгало из-за веселящихся туч желтыми боевыми клинками.
Совсем близко уже возвышался Дацан. Маринка различала слезящимися на ветру глазами — все двоилось, троилось, радужной радостью переливалось, счастьем! — закинутые к небу лица веселых окон, резьбу на колоннах, и эти хитрые, ласковые, ребячьи улыбки изогнутых крыш, — как вдруг на скале, обломке леворучь от нее воздымающейся заснеженной, мохнатой горы, на гладко-зеркальной, непроглядно-черной, словно острым тесаком яростного времени срубленной, каменной громаде она увидела рисунок, первобытный петроглиф, птичьей лапой процарапанный — острием в небо, в широкое небо, направленный голубой меч. Сердце ее зашлось, и она встала, как вкопанная.
Меч глядел в небо, он хотел разрубить серебряную нить, уходящую в зенит от Маринкиного затылка. Невдалеке, в лощине меж гор, прогрохотал поезд — он тихим ходом шел вдоль сурово замершей зеленоглазой реки. Должно быть, это был товарняк в сто вагонов — долго, тягуче разносился булыжниковый перестук колес. Маринка постояла еще, пялясь на скалу. Солнце ударило в петроглиф, и он пронзительнее, ярче вспыхнул голубым, густо-синим.
Сырой ветер хлестал. Снег кистями небесного платка бил по щекам. Скалолазкой Маринка не была отродясь, хотя бы здесь наверстает упущенное. Она сбросила дохлую, вчера еще дорогую шубейку, перекрестилась. Скала нависала отвесно, в ее рытвинах, трещинах и морщинах слежавшейся ватой залег больной твердый снег. Цепляясь руками и ногами за колючие выступы, она полезла, и ладони ветра неотвязно, наказуя и умоляя — “остановись! дура! сорвешься-разобьешься!..” — били, били в ее лицо, как в барабан. А она все лезла, вот чуть не сорвалась вправду! — нет, ухватилась, успела, — и дикое счастливое хрипенье, и смешки — это она себя подбадривала, — вырывались из ее груди, в которой воздух всей ее жизни клокотал.
Вершина, площадка, маленькое, продутое всеми ветрами плато… — где камень? — вот, черный, антрацитовый, откуда она знает, что его надо отвалить, — а ветер поет, а снег хлещет и плещет!.. — и вот он, под камнем, сверкающий, голубым омулем спящий на дне неизбывных времен.
Она взяла его в захолодавшие на ветру, красные морщинистые руки, и он засверкал в ее руках, и она поцеловала его, и седые ее волосы подстреленною птицей упали вдоль лезвия.
ПЕСНЯ МАРИНКИ — МЕЧУ
Синий меч, целую твой клинок.
Слезы стынут — изморозью — вдоль…
В дольнем мире каждый — одинок,
Обоюдоострая — юдоль.
Синий меч, купался ты в крови.
Вытер тебя Гэсэр о траву.
Звезды мне сложились в крик: живи.
Я бураном выхрипну: живу.
Я детей вагонных окрещу
Железнодорожною водой.
Я свечой вокзальной освещу
Лик в хвощах мороза, молодой —
Свой… — да полно, я ли это?!.. — я —
Яркоглаза, брови мои — смоль,
Свет зубов?!.. — изодрана скуфья,
И по горностаю — дыры, моль…
Короток сибирский век цариц —
Всех путейщиц, всех обходчиц, всех
Крепкоскулых, да в мазуте, лиц,
Из которых брызжет лавой — смех!
И заокеанский не длинней —
Знахарш, ясновидиц, медсестер:
Из ладоней бьют пучки огней —
Ненароком подожгут костер
Эшафотный: свой…
Глядися в меч!
В синее зерцало боли, мглы…
Бездна там венчальных, тонких свеч,
Радужно накрытые столы.
За лимонным срезом, за вином,
Кровью пахнущим, за снедью той —
В кресле колчаковском, ледяном —
Мы с тобой: смеющейся четой…
Держишь на коленях ты меня,
Малеванец, мой колдун-чалдон,
Саскией сижу — снопом огня,
Слышу под ребром я сердца звон,
Сердца звон… — твое или мое?.. —
Меч Гэсэра, разруби! — невмочь?!
На веревке Снежное Белье
Все мотает Свадебная Ночь…
Свадьба!.. Это Свадьба!..
…это бред.
Волосы седые ветер рвет.
Меч, гляжусь в тебя. Мне триста лет.
Кости мои — горы. Очи — лед.
Время просвистело — знамо, как,
Гэсэр-хан: как Тень Стрелы Отца.
Сгреб косичку в смуглый ты кулак
Под планетой желтого лица.
Вон и Будда в темноте стоит.
Плачет. Припаду к Его стопам.
Он Христа учил. Он лазурит
Одиноких глаз — швырнул степям.
Ох, спасибо, меч-мороз, — в тебе
Увидала я, кого люблю… —
В ножнах ты, как я в своей судьбе.
Прежде Бога горе не срублю.
Выпрямлюсь. Целую окоем.
Сын в земле. Созвездья над землей.
Синий меч, да мы с тобой вдвоем —
Режущий мне горло ветер мой.
Обоюдоострый мой култук,
Замахнись. Мгновенной будет боль.
………………Не разнять мертво сцепленных рук,
Обоюдоострая юдоль.
Она напялила шубейку. Она засунула его под мех. Она, утираясь ладонями, пальцами, мехом, плакала от радости, ощущая живой мороз древнего лезвия у своего ребра, под своим трепещущим ребром, под сердцем, внутри себя. Как ребенка. Как сына своего. Он, сын, ведь тоже ее разрезал больно и сладко, и счастливо, когда шел сквозь нее, головенкой вперед, вперед и вверх, в небо жизни и смерти.
Со ступней ее, с ладоней, из порезов, заработанных честно при спуске со скалы, на снег капала ржавая сукровица. Она шла, пятная снег, как подраненный зверь, и дико, беззвучно и великолепно смеялась, прижимая локтем священный меч к груди и животу.
Родные рельсы там, за поворотом, легли перед ней темнолиловыми охотничьими копьями. Мир был древен и жесток, как смола и звезда. И прямо над Маринкиной головой висела, тяжело и пронзительно переливаясь, огромная, как серебристый еж, разноцветная звезда, печальная. Имя ей было… — Маринка закинула голову… — да разве так важно это, имя? И станция светилась меж лиственниц, и крыша станционного домика улыбалась так же, как изогнутая крыша Дацана.
Она подошла к станции, и поезд нагнал ее. Минуту стоял поезд, может, меньше. Когда она залезала, придерживая под шубейкой запястьем — меч, в плацкартный вагон, ее босые ступни ожгло железо вагонной лесенки, и Маринка охнула, взбираясь в тепло и картофельно-яичный дух, в свалку пальто, шуб и матрацев, к едокам, картежникам и молчаливым скитальцам, в песни, жалобы и ночные сплетни-шушуканья. Народ, любимый народ. Смерть не жалко принять от руки твоей.
Она вошла, огляделась, оттаяла, пробралась к свободному месту. На нее, босую, простоволосую, вытаращились. Но смолчали, ничего не сказали — немногословен народ, справедлив.
Она сидела молча, качалась из стороны в сторону. Вагон качал ее — ее люлька, ее колыбель. Путь и поезд убаюкивали ее, пели ей дымную песню воли и неизбежности. Вечерело, мгла густела в восточной стороне широкого неба, и прямо за торчащими лопатками сухощавого дабана — ничком, уткнувшись в снег лицом, лежал каменистый хребет, как старый раненый солдат, — размахивал закат режущим глаз оранжевым флагом. Сосед, белобородый раскосый старик, предложил ей холодную картошку, завернутую в газету — свинцовые строчки на картошке отпечатались, — и хвост жирного омуля с душком. Она поела, поблагодарила, утерла рот. Вагонное стекло искрило морозной вышивкой, крестами и стрелами. Ночь спускалась стремительно — так убитая птица падает с неба в сугроб, в кровеносное сплетенье крон.
Маринка сидела, качалась, полузакрыв глаза. Вокруг укладывались спать — утомились, угомонились люди, приустали жить на земле. На Маринку накатила непонятная волна, заныло и засосало под ложечкой: захотелось ей покурить, как в бесприютных девчонках, бывало, присаживалась она на корточки курнуть близ гаражей, около отсыревших досок депо, у синего семафора поломанной стрелки. Вот, вот она, тоска. Втянуть глубоко в себя сизый дым, задохнуться. Заплакать. Подумать: как хорошо. Как смертно все, как чисто. Бесповоротно как.
Она встала, пошатнулась, сунулась лицом к белобородому старику — он дремал на верхней полке. Попросила тихонько:
— Дедунь, я видала, ты курить выходил, дай чинарик, однако?..
Сонный дед пошарил под подушкой. Маринка вытащила папиросу из мятой пачки, зажала коробок спичек в кулаке.
Стылый тамбур обхватил ее руками железного стука и пустоты. Огонь спички взвился и мер. Маринка затянулась глубоко, и разноцветье жизни всей затанцевало перед глазами. Леса, отлоги, льдяные реки, угрюмые дабаны в соболях вечных снегов летели за окном. И небо вызвездило так, что человечьим глазам больно было.
И дверь распахнулась, и круглые дымы мороза резко ворвались, опалили коричневые крашеные, убогие стены трясущегося тамбура, и трое ввалились — откуда, из соседнего вагона? — не понять было ничего. Они вошли, и у Маринки потемнело сердце, быстро забилось, потом остановилось вовсе. Она не помнила, не знала, не разобрала, в чем, как они были одеты: то ли тельняшки из-под расстегнутых грязных курток, то ли штопанные на локтях дошки, то ли…
— Куришь, баба, значит, да?
— А нам дашь прикурить?
Жесткий смех, будто ножом по сковородке.
Обступили. Она все время ощущала синий холод прекрасного меча под левой подмышкой, под сердцем.
Правый ударил ее в скулу. Под дых. Левый бил наотмашь, не разбирая, куда. Тот, что сзади мотался, ругнулся глухо. Перед глазами Маринки метнулся обнаженный нож. Вот еще одна финка. Ну, Меч, иди сюда. Время настало.
Она выхватила Меч. Неловко, неумело сражалась она, баба. Мужское это было, хитрое дело, неведомое ей. Но делать было нечего. Синие молнии сверкали в табачных тучах. Вагон рвался из стороны в сторону, колеса отдирались от рельсов, отлипали, вцеплялись снова. Трое били пьяно, озверело, точно. Маринка ранила Мечом — кого? — лезвие резануло живое тело, кровь брызнула ей на замерзшие, в цыпках, щиколотки. Трое одичало плевались сквозь зубы ругательствами. Она побеждала. Меч, родной, помоги. Гэсэр-хан, молюсь тебе. Она должна живой остаться. Добраться к малеванцу милому. Увидеть глаза-его-рыбы, стреловидные, стремительные под водою быстротекущего Времени.
И тут черная тень человека ли, медведя ли… — с желтыми горящими глазами, с серпами когтей на черной колышущейся лапе… — из иного пространства, из страшного дегтярного, медленного бытия, где царствует липкая черная боль… — высунулась из-за тамбурной двери, потянулась к стоп-крану, дотянулась, зацепилась, дернула… Поезд завизжал, застыл в вечной мерзлоте. Маринка упала лицом вниз, на холодное мерзлое железо. Меч вылетел, пробив окно, на снег, на обочину.
Ее больно обожгло под ребром… под сердцем… в животе. Там, где скрылась, спряталась ее жизнь, обожгло ее. Пламя стеной встало вокруг ее. И только одно поняла она: помолиться она уже не успеет за то, чтоб живущие — жили.
Ее, Маринку-сезонку, убитую тремя ножами, трое, открыв в летящий посвист ледяного воздуха тамбурную дверь и раскачав за ноги и за руки, выбросили из вагона. Тайга молчала. Звезды горели дико. Она — то, что секунду назад было ею, ее обхваченное ветром тело — упала на звенящий наст, раскинув руки, как бы летя, и Меч рядом с ней блестел в свете звезд выловленной из омута Времени рыбой.
А неподалеку от места ее смерти горел, треща, костерок, ежились на ветру вагоны-теплушки, сидели на заснеженных бревнах и мазутных обрубках шпал железнодорожные рабочие, варили на костерке, в проржавелом котле, сибирский чай с травою “верблюжий хвост”, переругивались беззлобно, курили, молчали. И среди них сидела милая, нежная девчонка в ватнике, с веснушками под глазами, с родинкой на верхней губе. Руки грела дыханьем то и дело — на эдаком холоду долгонько разве гитару продержишь-то! Струны перебирала. Голос хрипел на морозе. Голос. Голос. Слышишь, Маринка?! Твой… разрубили серебряную нить, и пошла жизнь, лишенная навек смерти, гулять по свету, смеясь, и плача, и страдая, веснушчатой девкой во льдах, голытьбой, руки голые, на морозе, подняв в благословенье надо всем, что мило было.
Так пела девчонка в ватнике. И рабочие железной дороги вроде бы и не слушали ее, говорили меж собою, пили крепкий чай, хлеб кусали. Но стоило замолкнуть ей — в бок локтем пихали, приказывали: “Пой! Чо останавливашься!..”
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ
Исходила младешенька
Золотые дороги,
Заревые дороги,
Где великие боги…
Засыпала младешенька
Во скитах и оврагах,
Подстилала отвагу,
Укрывалася флагом…
Спину гнула младешенька
Над морозною бочкой,
Над дегтярною ночкой,
Над терновым веночком…
Над колючим вагоном
В темноте примерзала…
Губы слиплись со сталью —
Но и кровью-печалью —
Все равно целовала…
А любила младешенька
Мужиков несчислимо —
То разбойника-вора,
То из глада и мора,
Из церковного хора —
Каждый мимо и мимо,
Каждому: мой любимый…
Как рожала младешенька —
Коромыслом погнулась,
Коромыслом погнулась
Да назад не вернулась…
Да в сугробах младешенька
Хоронила сыночка —
Омулевая бочка,
Многозвездная ночка…
Слезы, слезы младешеньки —
Ангары вы истоки,
Светлой Лены истоки,
Ледяны и жестоки…
Улетала младешенька
За моря-океаны,
За моря-океаны,
За снега и бураны…
Там поела младешенька
С золоченых подносов —
Снова кровушку-слезы,
Ой ли, кровушку-слезы…
Излечила младешенька
От хворобы да горя,
От великого горя —
Непомерное море…
Хлеб да рыбу — голодным,
Мех да пламя — холодным, —
Все давала младешенька,
Отдарила свободным…
Так ходила младешенька
Босиком — да по снегу,
Босиком — да по снегу,
Да с огнем — человеку,
Босиком — да по насту,
Помогая несчастным,
Босиком — да по тверди,
Босиком — да по Смерти!
Крест висел деревянный
На груди окаянной,
Да нефритовый Будда —
Охранял от простуды…
Только вся заливалась
Золотыми слезами,
Только в небо вонзалась
Золотыми глазами:
Ох, Луна-моя-Луненька,
Сто дорог исходилось,
Сто сапог износилось —
А к тебе не прибилось…
Воском щеки закапаны…
Мама, Лунная Матерь!
Ты поставь мне, заплаканной,
Вина в рюмке на скатерть.
Упаду я, младешенька,
На столешницу — ликом,
Да исплаканным ликом,
Да сиротским ли криком:
Ох, Луна моя, матушка!
На сторонушке темной —
Дом родной: там и счастье,
Там и горе — бездомно…
……………..и тянула младешенька
Ко Луне сивой руки,
Ко Луне седой — руки
В человеческой муке.
Исходила младешенька
Все луга и покосы,
А Луна все светила
На следы-ее-слезы,
А Луна все младешеньку
Целовала, сияя,
Обнимала, сияя,
И шептала: “Родная…”
Но не видно младешеньке
Яркой Лунной дороги:
Обессилели ноги,
Подкосилися ноги, —
И легла-то младешенька
В снег, Луной осиянный,
Зимней ночью росстанной,
Светлой ночью росстанной…
Рельсы сверкали под Луной резким светом, остро и отрешенно. Их, рельсы светлые, вброд, чуть пошатываясь и раскинув руки, чтобы не поскользнуться и не упасть на изломах каменной мерзлоты, перешел раскосый маленький мальчик. Смуглое лицо его было круглое, лунное. Улыбка изгибала маленьким веселым луком его рот. Черные жесткие волосы выбивались из-под островерхой монгольской лисьей шапки. Мальчик присел на корточки перед лежащей. Шея Маринки неловко, мучительно изогнулась, вывернулось встречь звездному небу лицо, лунный свет лег серебряным горчичником на иззелена-бледную щеку. Мальчик погладил женщину по мертвой щеке.
— Мама, — прошептал он. — Здравствуй на веки веков.
Он достал из-за пазухи круглую железную походную флягу, отвинтил крышку, капнул водки на палец, побрызгал через плечо — на снег — бурятским и монгольским богам. Пошарил еще в кармане. Вынул золотое венчальное колечко. Отер его о полу дубленки. Надел на неподвижный палец. Опять разлепил губы, сказал:
— Это от него, мама. Он просил, чтоб я сам тебе надел. Он тебя всю жизнь ждал, мама. Он здесь, за скалой. Близко. Я люблю тебя, мама. Никто не уходит отсюда. Все превращаются. Но я еще пока не знаю, в кого ты переселилась.
Он наклонился, бережно взял меч Гэсэр-хана, обжегши ладони замерзшим до звона лезвием, поднял — и тихо, осторожно пошел с мечом на вытянутых руках, медленно и нежно пошел прочь от лежащей на синем снегу, унося меч далеко в горы, для будущей Скиталицы — для новой Маринки… — Людмилки?.. Ксеньки?.. Еленки?.. имя ее Луна одна лишь знает… — награду.
А за увалом дабана, за грозной скалой, сидел раскосый длинноглазый человек, на волка похожий, перед ним на тверди наста стоял мольберт, деревянными лапами в снег вгрызаясь, и человек-волк то и дело снимал огромные рукавицы, дуя горячим дыханьем на замерзающие руки, вцепляясь крючьями пальцев в звенящие сосульки кистей, рьяно выдавливая цветные айсберги красок на стиральную доску палитры. На морозе, на диком волчином морозе все это, кусая губы до крови и слизывая теплую красную соль с заиндевелых усов, писал он, все это он с колотящимся сердцем, жесткой рукою, писал: и лежащую на синем снегу, вывернув шею, Маринку, и тихо идущего в горы мальчика со сверкающим мечом на вытянутых руках, и колючую радугу звезд над дабаном, и любовный сухой багульник по склонам, и ярко, смертно блистающие ножевые рельсы Транссибирской железной дороги, и застывшую кольцами ледяную змею на высокой гористой шее молчаливой суровой земли — Селенгу под зеленым льдом, — и все грел, грел бешено-неуемным дыханьем руки и краски, чтоб никогда, никогда, во веки веков, не застыли, не умерли.
И по щекам художника текли звезды и падали в снег у ног его. И он видел, как блестит золотое венчальное колечко на безымянном пальце Маринки, и писал его, вел колонковой кистью по задубелой шкуре холста. А над головой вставало колдовское, морозное Сияние. И в том Сиянии блазнилась ему за смолистым стволом усатая зверья морда, крупные нефритины мудрых лесных глаз. И розовую кошку, китайскую пантеру, сидящую на снегу просто и строго, пристально глядящую из-под разметанного на полнеба ветрами кедра на спокойное, недвижное тело Маринки, нежно, плача на холоду стынущими звездами, рисовал он.
И последнее, что лепила любящая кисть, — там, где грубая ножевая рана зияла и сочилась подземной силой под сердцем Маринки, — пустой черный, до головокруженья, прогал с летящей там, в черноте, скуластой и яркой Луною бессмертной.
Нет, еще нет. Не последнее. Краски мерзли неотвратимо. Немного времени оставалось. Он грел дыханьем руки, ругался сквозь зубы, цеплял густеющую, словно кровь, краску черенком кисти, пальцем размазывал по холсту, жестокой, великой ладонью. Вот! Сюда мазок. И сюда. Удар. Лессировка. Скорее. Вот она — счастливая улыбка рта Маринки, любимого, нежного женского рта, век назад целованного им, а она голову больно повернула, мертвым глазом на небо глядя, и из угла рта медленно, по капле, целые долгие века, зимние тысячелетья ползет на снег, прожигая дымящуюся дырку в вечной родной мерзлоте, струйка синей в лунном свете крови, жизни, молитвы: за други своя, за сгибших, за страдающих, за всех сужденных и любимых.