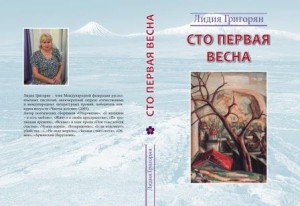ГЕНОЦИД АРМЯН
«Наша среда» продолжает публикацию книги Лидии Григорян «Сто первая весна», посвящённой столетию Геноцида армян – величайшего преступления XX века против человечества, совершённого в османской Турции. Авторы историй и эссе – жители Нижнего Новгорода – друзья армянского народа и армяне-нижегородцы, являющиеся прямыми и косвенными потомками армян, прошедших ад Геноцида. Среди авторов – представители всех слоев населения, люди разного возраста, разных профессий и рангов. В итоге из разных по содержанию, но единых по тематике историй получилась целостная картина прожитых нацией ста лет – века парадоксов и взросления, века, приведшего нас к сто первой весне.
Благодарим автора за предоставленную возможность публикации книги.
СВОЕГО ОТЦА Я НЕ ЛЮБИЛ
Александр САРАТЯН,
инженер, 59 лет
Мой отец, дед и прадед были армянами, но кто я – сказать трудно. Разве может человек принадлежать к нации, о которой ничего не знает и не имеет в ней потребности? Простите, если кого обидел. До последних лет, скажем до сорока, я не знал армянскую историю, культуру и т. д. Религию, несмотря на то что я крещён, воспринимаю спокойно, то есть, честно говоря, не фанатик. А армянский язык я и сейчас не знаю. Понимать понимаю, но отвечаю на русском. Ну и к кому мне себя относить?
Мои родители из Сирии. Все родственники, о которых говорили когда-либо дома и с кем разговаривали по телефону, были мамиными, значит, отец был сиротой. Я как-то не задавался мыслью о его детстве и родных. Эту тему никто никогда не затрагивал. Мои родители поженились в Сирии, моя мама была коренной жительницей Алеппо, а потом то ли в 1948-м, то ли в 1950-х годах она с отцом приехала в Россию. Скорее всего, они хотели поехать в Армению, но почему-то передумали. В нашем доме я почти не слышал армянскую речь. Родители говорили на арабском языке, на смешанном армяно-турецком, а впоследствии на русском, который, к их удивлению, они быстро выучили. Я родился в 1955 году в Нижнем Новгороде и был очень поздним ребёнком, ибо моему отцу шел сорок четвертый год, мама же была немногим младше. Я – единственный отпрыск своего отца Спартака Саратяна, не любившего вспоминать своего прошлого, в котором он оставил всё: национальность, веру, родителей и всё, что нужно человеку для утверждения собственного достоинства.
Своего отца я не любил. Он мне казался угрюмым и подозрительным. Единственное, что меня связывало с ним, это моё любопытство из-за «интересного» отношения моей мамы к нему. Она дрожала над ним, как над больным ребёнком. Сама покорность и услужливость. Я не понимал, из-за каких таких его качеств мать перед ним так унижается. Однажды, когда отец в очередной раз попал в больницу, я не вытерпел и стал к ней приставать с вопросами. Мать меня в очередной раз приструнила, и я замолк надолго. Удивительно, но меня всегда тянуло к армянам, которых раньше в нашем городе можно было по пальцам пересчитать. Чтобы хоть что-то знать о своих корнях, я начал искать литературу об армянах. Это были рассказы и очерки о Великой Армении, о христианстве, о Геноциде, о Советской Армении и т. д. Истории о Геноциде растревожили меня, я чувствовал внутри себя злость и какой-то конфуз. Совсем не ожидал такого поворота в душе. Даже в один момент подумал, как стыдно быть армянином, которого так втоптали в грязь. Не зная прошлого своих родных по отцовской линии, я чувствовал провал в мозгу и даже в психике. Мне чего-то недоставало. С этой неопределённостью, которая делала меня каким-то неполноценным в этой жизни, я прожил до тридцати пяти лет. Я уже был женат на русской девушке, у меня росли две дочери, между прочим, первую из них отец назвал Ангин: мать моя объяснила, что так звали её свекровь, которую она никогда не видела. Шёл первый месяц 1990 года. Если честно, я слабо припоминаю, каким образом мы узнали о погромах в Баку, но ясно помню, как отца после этой новости увезли в больницу, где он от инфаркта и умер. Отец ушёл на семьдесят пятом году жизни, так и не объяснив мне, почему мы – армяне по фамилии – стали чужеродными и пустыми оболочками в этом мире. Но одно я знал точно: он получил инфаркт после того, как узнал о многочисленных жертвах армян в Баку, убитых при ужасных обстоятельствах. Когда прошли 40 дней после смерти отца, я посадил маму перед собой и попросил, чтобы она рассказала о его прошлом. Я видел, что она не решается, и нарочно спросил: он что, убийца или какой-то преступник, что вы сбежали из Сирии? Мама взмахнула горестно руками и через какое-то время поддалась моей настырности. «Хоть я и дала слово твоему отцу, – покачала она головой, – но так уж и быть, расскажу. Но моей вины немного, ты сам это просил».
Предки моего отца оказались из Трапезунда. По словам мамы, мой прадед и его брат были из партии Дашнакцутюн и погибли ещё в 1895 году. Все заботы о большой семье пали на Ованеса, то есть моего деда. В 1915 году ему было сорок лет. Его семья состояла из старушки матери, жены Назик, старшего сына Масиса, двух дочерей Ануш и Гаяне и ещё двух сыновей – Сиса и Спартака. В начале лета почти всех родственников моей бабушки Назик турки утопили в море. Каким образом, я не знаю, но мама говорила, таких было много. Армяне несколько раз покидали город из-за резни, но потом возвращались, думая, что всё позади. И каждый раз оказывалось, что далеко не позади.
– Многие покидали город и шли куда глаза глядят, а семья твоего отца до последнего держалась за свою землю, – говорила мама. – Когда начались погромы, твоя прабабушка встала на пороге, думая, что варвары постесняются её седых волос, но не прошло и часа, как её убили, а всё семейство выгнали из дома. Отец приказал домочадцам молчать, не дёргаться и выполнять то, чего хотят жандармы. До этого мужчины их улицы договорились, что если их депортируют, они нападут в дороге на жандармов и освободят всех. Но их разделили на небольшие группы, которые охраняли по пять-шесть жандармов, да плюс вооружённые до зубов курдские налётчики. Через два дня в дороге люди начали роптать от голода и жажды. Самых шумных выводили из строя и на глазах у всех расстреливали. Дальше дело пошло ещё хуже: курды стали выкрадывать мальчиков-подростков. По хозяйству, в основном для работ на скотном дворе, им нужны были пленники. Ещё через некоторое время заплакали от жажды дети, и в их числе двухгодовалый Спартак. Бедная мать никак не могла укачать его, а когда удалось, отдала ребёнка старшей дочери, а сама пошла между людьми по отдыхающей на земле колонне, посмотреть, может, есть у кого вода для ребёнка. Жандармы увидели её и пальцем поманили к себе. Бедная женщина объяснила, что ей надо, но тут её схватили и потащили волоком. Старшая дочь, увидев это, отдала брата средней сестре и помчалась на помощь матери, а за ней и Ованес со старшим сыном. Одним словом, Назик и её дочь Ануш жандармы на глазах у всех стали насиловать, а Ованеса и старшего сына, поставив на колени, заставили смотреть. Когда люди закричали и пошли на жандармов, по ним стали стрелять и многих убили. Ованес всё-таки вырвался и, подняв камень, убил одного из жандармов, но его застрелили. После того как жандармы удовлетворили свою плоть, они убили женщин, а Масиса затолкали в толпу. Так четверо детей сразу осиротели. Масис и Гаяне по очереди несли младшего брата на спине и донесли до Алеппо. Сдав детей в приют, Масис стал подрабатывать тем, что носил по рынку воду. Это был угрюмый, молчаливый подросток; временами он пропадал по нескольку дней, потом снова появлялся в приюте, обнимал детей и беззвучно плакал. Это мне рассказывала уже моя мама, твоя бабушка, – объяснила горестно мать, – она работала в американском приюте. Когда дети подросли, Масис снял у одной старушки комнату и определил детей учиться. Они очень понравились сердобольной арабке, и она взялась вести хозяйство. Гаяне выросла красавицей и была очень похожа на свою маму, она вышла в восемнадцать лет замуж за моего двоюродного брата, – рассказывала мать, – а Сис окончил медицинское училище и стал работать стоматологом. Спартак любил пилить, колотить, и Масис определил его к хорошим мастерам по обработке дерева. Когда Спартаку исполнилось двадцать и он уже работал самостоятельно, Масис повесился. Он так и не смог забыть прошлое. Затаённый гнев униженного осиротевшего ребёнка остался в нём навсегда. Спартак, привыкший к угрюмости брата и любивший его до безумия, никак не мог понять, почему брат это сделал. Он начал сходить с ума. На похоронах была одна старушка, что когда-то жила бок о бок с их семьей в Трапезунде, а после ковыляла около и в дороге депортации. Плача по Масису, старушка стала причитать и говорить, что несчастный так и не смог перенести позора, а потом, повернувшись к Спартаку, вдруг добавила: бедная головушка, как же ты будешь с этим жить. Спартак совсем онемел, потому что не мог докопаться до сути и понять, какова его доля вины в смерти брата. И тогда его сестре Гаяне пришлось ему всё рассказать. Увидев лицо Спартака, она стала уговаривать его не принимать всё так близко к сердцу, ведь это было не только с ними, это было со всем народом и он тут ни при чём, виноваты турки. Но впечатлительный Спартак всё принял на свой счёт. Он считал, что если бы он тогда не плакал, то и родители, и сестра, и Масис были бы живы. Мне было тогда всего двенадцать лет, – продолжала мама, – и я очень жалела Спартака. Мы были соседи, и я всё время тормошила его, чтобы он помог мне с уроками. Можно сказать, что тогда я его выходила, ну а потом это стало делом моей жизни. Ну, а дальше ты сам знаешь.
Рассказ мамы не принёс мне облегчения, нет, скорее он посеял во мне семя разочарования, ужаса и непонятную боль. Я сначала даже забыл об отце, мысли мои были заняты Масисом. Как он мог жить с печатью замкнутости в душе, с позорящим и испепеляющим клеймом униженного и втоптанного в грязь мужчины? Мой бедный дядя! Затем мысли мои обратились к отцу. И я стал понимать его нежелание говорить о своём прошлом. В нём был не страх ранить мою душу, в нём было чувство куда ужаснее – отречение от самого себя и отречение от своей нации из-за непонимания: за что и почему? А это непонимание приносило ему больше боли и безысходности, чем сам Геноцид. Непонимание, почему так поступили с его нацией, почему на глазах у мира было допущено это преступление, длившееся не год и не два, как могли так поступать с женщинами и детьми, сводило его с ума. Очень страшно жить с таким унижением и опустошением всю жизнь. Мой бедный отец!
Недостающая деталь прошлого вернулась на своё место. То, что было вычеркнуто моими родителями, не успело забыться и кануть в небытие, а, наоборот, узнав те истории, я больше не грезил о покое: я уходил из дома, смотрел на мирно живущих людей, думал о предках, об армянской судьбе. Образовался замкнутый круг, из которого я не мог выбраться. Через десять лет после отца, в 2000 году, я похоронил и маму. Она очень переживала, что я стал замкнутым, как отец, и много плакала. Но я ничем не мог ей помочь. Мне самому было тошно. Прошло ещё четырнадцать лет.
Я считаю себя коренным нижегородцем, россиянином, но с недавних пор меня начало мучить мое невежество в отношении нации, к которой я принадлежу. Все знакомые и друзья у меня русские, но, клянусь, межнациональных вопросов у нас никогда не возникало. С русскими мне комфортно и как-то проще, они мне понятны. Но после долгих размышлений по совету жены я решил пообщаться с армянами, благо в городе уже есть армянская церковь.
Сделал два круга вокруг церкви, постоял у хачкаров, стал вглядываться во входящих во двор армян. Добродушные на вид люди с благоговением крестились, глядя на церковь, собирались кучками, говорили весело на армянском языке. Из пристроя напротив церкви вышел священник. Подошёл к людям, что-то сказал им, видно, благословил, с мужчинами поздоровался за руку, направился к церкви и вдруг остановился против меня, чего я не ожидал. Подал руку, поздоровался. Я ответил ему рукопожатием. Он посмотрел на меня внимательно и вдруг перешёл на русский язык.
– Добро пожаловать к нам в церковь. Вы впервые пришли? Что-то я вас не помню.
– Да, впервые, – ответил я.
– Всё хорошо? Может, есть вопросы?
– Всё нормально, спасибо.
– Благослови вас Бог.
Священник мне очень понравился. Волевое мужественное смуглое лицо – лицо настоящего армянина. Куда уж там я, светлый да бледнолицый! Даже батюшка решил, что я русский. Долго стоял на службе, рассматривал людей. Много молодёжи и детей. Службу не выстоял и вышел. Проходя под аркой, увидел у выхода объявление, что к 100-летию Геноцида готовится книга, которая будет состоять из реальных историй армян-нижегородцев о судьбах их предков, прошедших и зверски убитых во время Геноцида 1915 года. И что автор, чьи данные были указаны, просит откликнуться соотечественников, у кого есть такая история. Подспудно мелькнула мысль, что у автора в душе тоже незаживающая язва, если рискнула пропустить через себя не одну трагическую судьбу. Ещё раз прочитал имя и фамилию автора, и, несмотря на то что они мне ничего не сказали, в душе появилось уважение к этому человеку и какое-то облегчение внутри; почему облегчение – понял потом. Пока ехал в машине домой, решил, что надо написать о нашей семейной трагедии. Я не видел Геноцида, но в итоге я являюсь больным плодом этого преступления.
Постскриптум.
Из уважения к автору признаюсь, что поменял только свою фамилию. Не хочу вопросов и соболезнований со стороны друзей и знакомых.